Идиллии - [32]
Мы оба посмотрели на горца. Он подался вперед, отогнал дым от лица и, видно, потому что на этот раз с ними сидел чужой человек, вдруг проворчал:
— Что ты городишь, ведь не знаешь, каково мне тогда было!
Он выбил трубку о ладонь, вынул кисет с табаком, набил ее снова и продолжал, не глядя ни на жену, ни на меня:
— Когда у тебя потемнеет в глазах, померкнет весь белый свет и пойдешь ты с родного Балкана, через ущелье, через равнину — попробуй, найди своей душе место! Надо чтоб вот так вырвали человека с корнями и бросили на дорогу — только тогда его и занесет куда угодно, даже на край света!.. Вот ты плакала, дескать, замолчали колеса, стучать перестали по камням, а когда они стучали, ты что-нибудь понимала? А я слушал их, говорили они мне своим скрипом и стуком, какая жизнь была у нашего народа, рассказали всю ее, с самого начала. Хлопают, как сломанные крылья, грядки повозки, тарахтят и скрипят колеса, все это неспроста. На равнине их не слышно. О чем им тут говорить? А наверху наша жизнь как шла? Как та моя телега: застрянет, выедет, завалится, и все по каменистой дороге. Исходи весь Балкан — только тогда и поймешь ее речь.
Старик опять затянулся из своей короткой трубочки и умолк.
— Как наседка прячет под крыло своих цыплят, так и мы все бежали укрыться в темных дебрях Балкана, — вмешался я, чтобы поддержать разговор. — Теперь уж все скатилось с его вершин сломя голову вниз. Опустели старые села горцев. А было время, когда наш народ совсем осиротел и не на кого ему стало положиться, тогда-то Балкан и приютил его, как родного, чтобы не стерли его с лица земли. И веками хранил, защищал от недругов в своих лесах, песнями своих дубрав баюкал и наставлял, нас всех кормила его бесплодная каменистая грудь.
Я еще не кончил говорить, как старик закивал головой:
— Где ни встретишь горца — сразу его видно! И по осанке, и по разговору. Он будто сын из хорошего дома, кого вырастили отец с матерью. Знает себе цену, знает и своих, держит свою честь. Не увидишь, чтобы перед кем склонил голову. А равнинный человек — тот на всем готовом. Имущие они и богатые. А посмотри на него: вырос как на постоялом дворе. Потерял и себя и своих. Любой чужой человек, откуда бы ни взялся, помыкает им как батраком.
Он опять откинулся назад, и голову его окутало облачко табачного дыма; прислонился к стене и тихо, словно про себя, заговорил. Вместе с ним примолкший было сверчок опять завел свою песню, и его однообразный стрекот переплетался с рассказом старика.
— Равнинный житель… Знает ли он, как знаем мы, что это такое — обойти весной свои поля и посмотреть сверху на увалы и ложбины под тобой, и-и-и! Густая озимь только что покрыла поля в котловинах, сельские крыши тонут в облаках расцветших деревьев, где-то в небе курлыкают журавли, а вокруг тихо, будто все ждет — вот-вот снова родится Христос… С той поры, как мы спустились сюда, в хлопотах и заботах ни минуты не было у меня остановиться и осмотреться. Наверху я еще мальчишкой, бывало, подолгу там стоял — на красоту радовался. Стоишь один, цел-целехонек — не разрывают тебя на тысячу частей — смотришь, смотришь и чувствуешь, как тихой радостью наполняется душа. А если у кого наверху есть летняя кошара… Вечером подоишь, взойдет месяц, на лесные поляны падет роса, — выгони овец на поляну, встань на высокое место и достань кавал[20]. Леса вокруг притихли; говорят, самодивы в такую пору бродят вокруг пастухов, — заиграй на кавале, и ничего тебе не страшно. Ты играешь, овцы щиплют себе травку на поляне, а Балкан — он позади тебя. Распрямился, просветлел, слушает твою песню… К полуночи напасутся овцы, загонишь их в кошару, а сам вытянешься в сторонке, в шалаше, под буркой. А тогда и лес подхватит твою песню. Словно до того деревья таились. А теперь, что взяли от твоей песни, передают друг другу. Закрой глаза, слушай, как дерево дереву шепчет, доверяет твое слово. Шепот уйдет и стихнет вдали, все примолкнет. Потом снова вернется, услышишь его: вот он возвращается. Как его повторяют тяжелые буковые ветки, вздыхают…
Стучала телега, скрипели колеса по размытой дороге, заживо оплакивали нас, — повернулся горец опять ко мне. — Такое горькое время тогда наступило, что пришлось нам оставить его — того, кто поддерживал нас все тяжелые годы. Потом, когда замирились, не набрался я смелости вернуться. Кто ходил — не нашел и пепла от своих очагов. Были и такие, что остались. Но через год-другой я увидел — сыновья их спустились сюда. Всех нас равнина соблазнила.
— Кто знает, как там сейчас наверху, ты ходил, видел? Там, где были хижины, села, теперь развалины заросли ежевикой, ни от чего следов не осталось. Весенним вечером разве что стая воронов завернет по старой привычке покаркать на тополях нашей заброшенной часовни, вспомнят они, что было тут когда-то… А Балкан! Эге-ге-ге, я и сегодня смотрел на него с холма, — как он синеет. Окутали его туманы, и из них, будто из облаков, вершины поднимаются — словно хочет он заглянуть сюда, — посмотреть, где его птенцы, живы ли дети его, дымятся ли еще их трубы… Посмотреть на них!
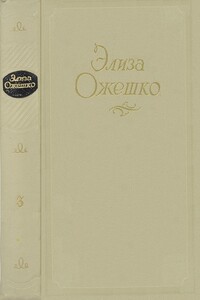
Роман «Над Неманом» выдающейся польской писательницы Элизы Ожешко (1841–1910) — великолепный гимн труду. Он весь пронизан глубокой мыслью, что самые лучшие человеческие качества — любовь, дружба, умение понимать и беречь природу, любить родину — даны только людям труда. Глубокая вера писательницы в благотворное влияние человеческого труда подчеркивается и судьбами героев романа. Выросшая в помещичьем доме Юстына Ожельская отказывается от брака по расчету и уходит к любимому — в мужицкую хату. Ее тетка Марта, которая много лет назад не нашла в себе подобной решимости, горько сожалеет в старости о своей ошибке…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.

Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.