Готическое общество: морфология кошмара - [36]
Речь идет не столько о ставшей давно привычной конвергенции правоохранительных структур и мафии, а о принципиальной невозможности отличить добро от зла, в чем и состоит главная идея романов и основа коллизий для героев этих произведений. Отсутствие критериев, которые позволяли бы им формировать свои суждения о добре и зле, проистекает из принципиальной невозможности ответить на вопрос, откуда приходит в мир зло, является следствием принципиальной неясности природы зла, как это показано в «Дикой стае» Панова:
«— Возможно, это так, — подумав, ответил Артур. — Но сути дела это не меняет; я охотник. И даже если Сурн (чудовище. — Д. Х.) — всего лишь симметричный ответ, я буду преследовать его, пока не убью. В нас и без того достаточно зла, чтобы получать дополнительную инъекцию.
— А как ты отнесешься к мысли, что кто-то охотится на добрых тварей?
— С пониманием, — усмехнулся Артур. — Мы должны сами решать, когда и как поступать. Мы должны совершать ошибки и идти вперед своей дорогой»[161].
Суждение о добре и зле, неразличимых по своей природе, основывается исключительно и только на субъективной оценке, не опирающейся ни на какие нормы — без нее ни самих этих категорий, ни их критериев просто не существует. Для примера приведем вот такой диалог из «Ночного Дозора» между оборотнем и неофитом Егором: Так на меня могли напасть по этому вашему договору? (договору между оборотнями об охоте на людей. — Д. Х.)... И выпили бы кровь? А вы прошли бы мимо и отвернулись? (...) — Да... Я пришел защитить тебя... Ты поймешь. У нас нет другого выхода»[162] — И ты — добрый? — Прежде всего я — Иной. Различие Добра и Зла лежит в отношении к обычным людям. Если ты выберешь Свет — ты не будешь применять свои способности для личной выгоды. (Что, как выясняется в конце романа, герой решительно опровергает и отвергает, предпочитая личную выгоду всякому альтруизму. — Д. Х.) Если ты выбрал Тьму — это станет для тебя нормальным. Но даже черный маг способен исцелять больных. (...) А белый маг может отказывать людям в помощи. — Тогда я не понимаю, в чем разница? — Ты поймешь»[163], — обещает герой романа неофиту. Но он обманывает неофита, потому что сам не знает ответа. Вот к какому рассуждению приходит он сам в результате длительной истории предательств и подстав: «Охранять закон. Преследовать Зло. Защищать невиновных. (...) Вот только самый честный и простодушный полицейский, воспитанный на громких звездно-полосатых идеалах, рано или поздно поймет, на улицах есть не только свет и тьма. Есть еще договоренности, уступки, соглашения. Информаторы, ловушки, провокации. Рано или поздно приходится сдавать своих, подбрасывать в чужие карманы пакетики с героином, бить по почкам аккуратно, чтобы не оставалось следов. И все — ради тех, самых простых правил. Охранять закон. Преследовать Зло. Защищать невиновных». Можно не сомневаться, читатель разделяет с любимым героем чувство глубокой растерянности.«— Вот что важнее для сохранения баланса (между добром и злом)? — все же спросил я: — Повышение моей оперативной квалификации или жизни трех ни в чем не повинных людей?» — И этот вопрос тоже остается без ответа. Невозможность ответа на него составляет главный — и самый интересный — пафос книги.
Неспособность героя найти убедительную основу для своих моральных суждений звучит в его признании, к которому он приходит в конце романа: «Где же грань? Где оправдание? Где прощение? Я не знаю ответа. Я ничего не в силах сказать, даже самому себе. Я уже плыву по инерции, на старых убеждениях и догмах»[164]. Главный вывод, который в итоге оказывается в состоянии сделать герой, состоит в том, что единственным легитимным критерием морального суждения являются его корыстные личные интересы.
Готическая мораль ситуативна: суть запретов и степень дозволенного полностью определяются вкусами сильнейших — чаще всего глав отдельных кланов, включая сюда не только «крыши», но и предприятия, корпорации, учреждения образования и культуры, — ни к чему не обязывая соседей. Причем то, что сегодня признается моральным одним из таких властей предержащих, ничуть не влияет на представления соседа и ни к чему его не обязывает. Так на смену универсальной морали приходит мораль как деистический жест[165], указующий на конкретную ситуацию, решаемую здесь и сейчас, но именно в силу этого не нуждающуюся в описании в абстрактных и универсальных понятиях. Это вовсе не «замена одной универсальной морали на другую», «ханжеской советской морали» на «жесткие, но трезвые» «понятия» бандитской этики. Напротив, исчезновение единой системы референций, разделяемой обществом в целом, ведет к замене абстрактных представлений на пристрастия конкретных лиц. Вот как формулирует отказ от универсальных ценностей герой «Ночного Дозора»; «— Света, нам не дано выбрать абсолютную истину. Истина всегда двулика. Все, что у нас есть, — право отказаться от той лжи, которая более неприятна»[166]. Согласие, достигаемое по поводу конфликтов, тоже остается ситуативным и конкретным — как мы это наблюдаем в «разборках», проходящих перед нами и в «Ночном Дозоре» Лукьяненко или в «Правильном решении» Панова. И поэтому очень часто согласие или несогласие по поводу этических вопросов рассматривается не в универсальных терминах добра и зла, а обосновывается как реакция на личную обиду или на признание личных заслуг.
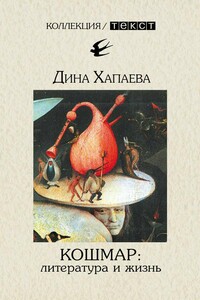
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютерные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, достойный серьезного внимания. Однако для авторов «романа ментальных состояний» кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих произведениях.
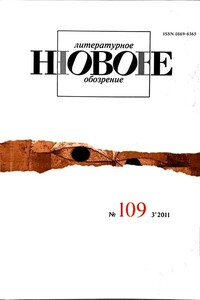
«Что говорит популярность вампиров о современной культуре и какую роль в ней играют вампиры? Каковы последствия вампиромании для человека? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этой статье».

Эта книга посвящена танатопатии — завороженности нашего общества смертью. Тридцать лет назад Хэллоуин не соперничал с Рождеством, «черный туризм» не был стремительно развивающейся индустрией, «шикарный труп» не диктовал стиль дешевой моды, «зеленые похороны» казались эксцентричным выбором одиночек, а вампиры, зомби, каннибалы и серийные убийцы не являлись любимыми героями публики от мала до велика. Став забавой, зрелище виртуальной насильственной смерти меняет наши представления о человеке, его месте среди других живых существ и о ценности человеческой жизни, равно как и о том, можно ли употреблять человека в пищу.

«Непредсказуемость общества», «утрата ориентиров», «кризис наук о человеке», «конец интеллектуалов», «распад гуманитарного сообщества», — так описывают современную интеллектуальную ситуацию ведущие российские и французские исследователи — герои этой книги. Науки об обществе утратили способность анализировать настоящее и предсказывать будущее. Немота интеллектуалов вызвана «забастовкой языка»: базовые понятия социальных наук, такие как «реальность» и «объективность», «демократия» и «нация», стремительно утрачивают привычный смысл.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.