Горизонты исторической нарратологии - [89]
Именно эта последняя из трех историй, несмотря на ее печальный финал, приходится по душе слушателям и объединяет собеседников (первые две разобщали), побуждает их в концовке рассказа к солидарному переживанию. Начавшаяся с предложения объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать (то есть понимать изнутри, а не определять извне), исповедальная история Алехина изложена в модальности постигания. Собственная любовь рассказчика, повествовавшего с таким чистосердечием, раскрытая глубоко и полно, и, тем не менее, не до конца ему самому понятная, так и не утрачивает статуса тайны, которая велика есть.
В рассказе «Человек в футляре» внутритекстовым адресатом выступает Иван Иваныч, делающий самостоятельный и притом весьма радикальный вывод из рассказанной Буркиным истории: нет, больше жить так невозможно! Самому же Буркину такой вывод чужд. В «Крыжовнике», в свою очередь, рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Негативные реакции слушателей вынуждают читателя вдумываться и оценивать рассказы персонажей по-своему, то есть актуализировать для себя собственную позицию, сделаться активно причастным свидетелем события общения людей, составляющего обычно главный интерес чеховской наррации.
Только третий рассказ в рассказе весьма тронул и понравился обоим слушателям (столь разным). Нарратор не разъясняет мотивов коммуникативного поведения персонажей, оставляя читателю возможность самостоятельного ответа на «правильно поставленный вопрос» (как сам писатель это называл). А «постановка вопроса» состоит в «правильной» (точной и тонко выверенной) двухслойной наррации как первого порядка (рамочное повествование), так и второго (вставное повествование персонажа).
Первые две внутритекстовые наррации разобщают (молчали, точно сердились друг на друга – на утро после рассказа Буркина; сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали – после рассказа Ивана Иваныча), и только третья (рассказ Алехина) – неожиданно объединяет собеседников. Дело в том, что и Буркин, и Иван Иваныч говорят о своем (как будто просил лично для себя) и остаются глухи к ответной реакции: выговорившийся всякий раз спокойно засыпает, а слушатель, которого рассказ не удовлетворил, мучается бессонницей от наплыва мыслей. При этом первые два рассказчика резко порицают своих персонажей, решительно отстраняются от их жизненного опыта.
Иное дело – рассказ Алехина, хотя в нем повторяются ситуации и мотивы первых двух историй (в Лугановиче легко угадывается женившийся Беликов, а сам Алехин укладом своей жизни напоминает Чимшу-Гималайского из «Крыжовника»). Персонажи третьего рассказа оказались хорошо известными слушателям, чего не было в предыдущих повествованиях, а предмет разговора (Стали говорить о любви) и проблематика тайны личного счастья – общеинтересными. В концовке рассказа они жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи.
Вследствие непроизвольно возникающей солидарности взаимодействующих сознаний содержание рассказа в этих сознаниях получает дальнейшее развитие, а их былое разобщение преодолевается, что подчеркнуто в финале привходящими моментами символического характера. Первый рассказ озарялся холодным светом луны, второй сопровождался нескончаемым дождем, и лишь после третьего дождь перестал и выглянуло солнце, а плес теперь на солнце блестел, как зеркало (рассказ Алехина и стал для него самого своего рода словесным зеркалом самоопределения).
Фокализацией кадров ментального видения, обликом говорящих (два рассказчика-охотника своими портретными характеристиками являют традиционно комическую «карнавальную пару») и реакцией слушателей, аналогичностью первых двух концовок и контрастностью по отношению к ним третьей – всеми этими моментами повествователь инспирирует в рецептивном сознании «правильно поставленный вопрос»: в чем изъян первых двух рассказов и в чем преимущество последнего?
Этическая ущербность нарратива Буркина состоит, например, в том, что он легко и самонадеянно отделяет себя от тех, о ком говорит:

Исторический контекст любой эпохи включает в себя ее культурный словарь, реконструкцией которого общими усилиями занимаются филологи, искусствоведы, историки философии и историки идей. Попытка рассмотреть проблемы этой реконструкции была предпринята в ходе конференции «Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов», устроенной Институтом высших гуманитарных исследований Российского государственного университета и издательством «Новое литературное обозрение» и состоявшейся в РГГУ 16–17 февраля 2009 года.

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.
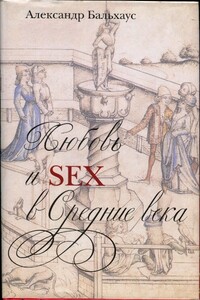
Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!