Горизонты исторической нарратологии - [88]
На кризисных ситуациях построены в большинстве своем булгаковские «Записки юного врача», шолоховские «Донские рассказы». Произведения, составившие «Конармию» Бабеля, помимо своих внутренних малых сюжетных кризисов охвачены единой ситуацией исторического кризиса. Жанрообразующий кризис идентичности не обязательно столь драматичен, как в перечисляемых примерах. Он может быть и комическим, как это нередко встречается у Шукшина, чьи «чудики» принципиально чужды инерции существования, свойственной окружающим их людям.
Представляется далеко не случайным, что интересующий нас жанр вполне сформировался и расцвел именно в историческую эпоху нараставшего ментального кризиса, приведшего к революционным социально-политическим и социокультурным потрясениям. Ментальные кризисы и кризисы политические (последствия первых), сотрясавшие и сотрясающие культуру цивилизованных стран с конца XIX века, способствовали кризису самого романного жанра. Биографической нарративности романа потребовалось радикальное обновление. Однако для рассказа, вполне сформировавшегося в творчестве Чехова, кризисность «длинного ХХ столетия» создала, можно сказать, благоприятную питательную среду.
Вследствие гибридности нарративной стратегии построманного жанра этос рассказа также приобретает двойственный, неодносложный характер. Взаимоналожение различных нарративных этосов может быть наглядно продемонстрировано на примерах внутритекстовых нарративов так называемой маленькой трилогии Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»).
В состав повествуемой истории, как и в данном случае, могут входить персонажи, рассказывающие некоторую собственную историю, и персонажи, выступающие ее непосредственными слушателями. Такой «нарратив-в-нарративе» занимает только часть целого текста и не должен восприниматься как самостоятельный. Наличие двух повествований – внешнего (обрамляющего) и внутреннего (обрамленного) – нельзя недооценивать. Нельзя забывать, например, что история Беликова рассказана не самим нарратором Чехова, а смешным Буркиным. Рецептивная позиция читателя должна сохранять независимость от внутритекстового адресата (слушателя вставной истории) и от его реакции на услышанное.
При такой концентрической конфигурации нарративного текста читатель становится реципиентом двойной событийности: той, о которой было рассказано одним из персонажей, и коммуникативной событийности его рассказа (общения персонажей). Этот нарративный ход, как правило, активизирует читательское восприятие, вынуждая критически соотносить свою позицию с позициями говорящих и слушающих персонажей.
История Беликова рассказывается Буркиным как анекдот. Перед нами разворачивается курьезная жизнь курьезного человека в случайностном мире. Наррация строится как субъективно ограниченное, частное свидетельство жизненного казуса, не претендующее на обобщение. Природа этоса данной истории явственно манифестируется удовольствием по поводу похорон Беликова. Попытку собеседника глубокомысленно истолковать вполне анекдотическую интригу, извлечь из нее нравственный урок, Буркин решительно прерывает: Ну, уж это вы из другой оперы.
Впрочем, нарративная стратегия рассказчика и была такова, что предполагала спектр самостоятельных мнений. Напротив, история своего брата в «Крыжовнике» излагается Иваном Иванычем как притчевая. Интрига жизненного успеха, которого добивался Чимша-Гималайский, негативно освещена нормативным убеждением рассказчика, развернутым в соответствующую императивную картину мира:
Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.
Обратим внимание на то, что речь ведется не о личной свободе, а о сверхличном общечеловеческом «духе». В патетическом послесловии к своей истории Иван Иваныч акцентирует ее этос как этос долга, убеждая слушателей в том, что смысл и цель жизни не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом, и требуя от утомившегося за трудовой день и едва преодолевающего сонливость Алехина: не давайте усыплять себя! […] не уставайте делать добро!
Однако рецептивная установка его слушателей, которым хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин (этос желания), в данном случае противоречила регулятивному этосу рассказа, оставившего их по этой причине неудовлетворенными (несостоявшееся коммуникативное событие).
Наконец, рассказ Алехина («О любви»), излагающий историю нереализованной внутренней близости (в некотором смысле альтернативную «Даме с собачкой»), демонстрирует еще один этос нарративности, предельно заостряя, но так и оставляя открытым вопрос, следует ли в любви рассуждать, исходя от высшего, от более важного, чем счастье

Исторический контекст любой эпохи включает в себя ее культурный словарь, реконструкцией которого общими усилиями занимаются филологи, искусствоведы, историки философии и историки идей. Попытка рассмотреть проблемы этой реконструкции была предпринята в ходе конференции «Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов», устроенной Институтом высших гуманитарных исследований Российского государственного университета и издательством «Новое литературное обозрение» и состоявшейся в РГГУ 16–17 февраля 2009 года.
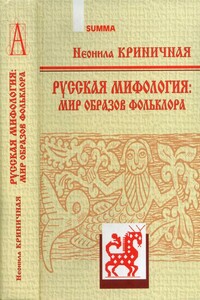
Данная книга — итог многолетних исследований, предпринятых автором в области русской мифологии. Работа выполнена на стыке различных дисциплин: фольклористики, литературоведения, лингвистики, этнографии, искусствознания, истории, с привлечением мифологических аспектов народной ботаники, медицины, географии. Обнаруживая типологические параллели, автор широко привлекает мифологемы, сформировавшиеся в традициях других народов мира. Посредством комплексного анализа раскрываются истоки и полисемантизм образов, выявленных в быличках, бывальщинах, легендах, поверьях, в произведениях других жанров и разновидностей фольклора, не только вербального, но и изобразительного.
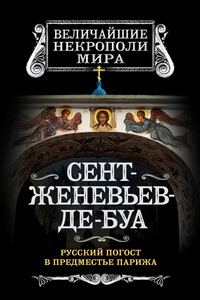
На знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа упокоились священники и царедворцы, бывшие министры и красавицы-балерины, великие князья и террористы, художники и белые генералы, прославленные герои войн и агенты ГПУ, фрейлины двора и портнихи, звезды кино и режиссеры театра, бывшие закадычные друзья и смертельные враги… Одни из них встретили приход XX века в расцвете своей русской славы, другие тогда еще не родились на свет. Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Матильда Кшесинская, Шереметевы и Юсуповы, генерал Кутепов, отец Сергий Булгаков, Алексей Ремизов, Тэффи, Борис Зайцев, Серж Лифарь, Зинаида Серебрякова, Александр Галич, Андрей Тарковский, Владимир Максимов, Зинаида Шаховская, Рудольф Нуриев… Судьба свела их вместе под березами этого островка ушедшей России во Франции, на погосте минувшего века.
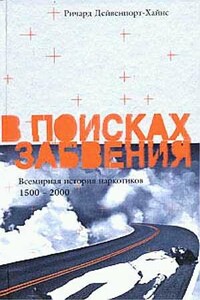
Наркотики. «Искусственный рай»? Так говорил о наркотиках Де Куинси, так считали Бодлер, Верлен, Эдгар По… Идеальное средство «расширения сознания»? На этом стояли Карлос Кастанеда, Тимоти Лири, культура битников и хиппи… Кайф «продвинутых» людей? Так полагали рок-музыканты – от Сида Вишеса до Курта Кобейна… Практически все они умерли именно от наркотиков – или «под наркотиками».Перед вами – книга о наркотиках. Об истории их употребления. О том, как именно они изменяют организм человека. Об их многочисленных разновидностях – от самых «легких» до самых «тяжелых».
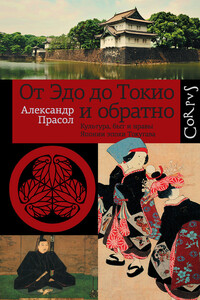
Период Токугава (1603–1867 гг.) во многом определил стремительный экономический взлет Японии и нынешний ее триумф, своеобразие культуры и представлений ее жителей, так удивлявшее и удивляющее иностранцев.О том интереснейшем времени рассказывает ученый, проживший более двадцати лет в Японии и посвятивший более сорока лет изучению ее истории, культуры и языка; автор нескольких книг, в том числе: “Япония: лики времени” (шорт-лист премии “Просветитель”, 2010 г.)Для широкого круга читателей.
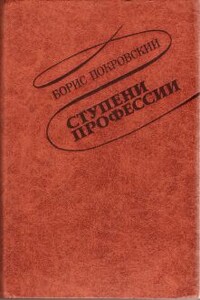
Выдающийся деятель советского театра Б. А. Покровский рассказывает на страницах книги об особенностях профессии режиссера в оперном театре, об известных мастерах оперной сцены. Автор делится раздумьями о развитии искусства музыкального театра, о принципах новаторства на оперной сцене, о самой природе творчества в оперном театре.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.