Голыми глазами - [3]
за ним японские баржи.
Для них даже составили грамоту.
На беду, нанайцы не желают учить детей по написанным в ленинградских и московских институтах учебникам, а переводят их в «русские» классы.
Русских в поселке – две трети, и говорят все по-русски.
Как и радио, книги, газеты.
А после школы все одно ехать учиться в Хабаровск, Москву, Ленинград.
И тут ничего не поделать.
Разве всех их загнать в заповедник.
С первым никелированным рыболовным крючком, подаренным туземцу, приходит Великий Соблазн.
А языки и уклады маленьких народов уходят.
Все равно у детей красивые раскосые лица.
И мотоциклы у мальчиков.
А у девочек – взрослые тайны.
И музыка из транзисторов у тех и других.
И накатывающая жизнь берет свое среди электропроводов на столбах, телевизоров, трелевочных тракторов, клуба с написанной от руки киноафишей, расписаний авиарейсов, задачек по химии и рыбоконсервного цеха на берегу.
Осталась рыбалка, ради которой нанайцы рождаются на свет.
Лов кеты запрещен, и только местным народам позволено брать из реки: по пятьдесят кило на душу.
Цифра эта непонятна нанайцу.
И они ловят, собачась с рыбнадзором, сколько река направляет в их сети.
Прячут улов, ночами перетаскивают из лодок, продают.
И будут ловить, пока не кончится рыба в реке и нанайцы на берегу.
Ради нас рыбнадзор разрешил половить лишний раз.
Наши знакомцы возликовали, но не подали вида.
Только посерьезнели вдруг, позвали каких-то людей и принялись совещаться на пустыре возле рыбоконсервного цеха, посылая куда-то гонцов, что-то чертя пальцем на песке и поглядывая на нас, оставленных в сторонке.
А наутро в брезентовых робах, с сетями и тяжелыми гоночными моторами на плечах, с мешками, в которых угадывалось заветное булькающее стекло, побрели к берегу.
Теперь тут не было ни завгара, ни директора мастерских по пошиву тапочек с национальным узором, ни школьного учителя, ни шофера – но только нанайцы-рыбаки, перенявшие свое ремесло и охоту к нему с пахнущим рыбьим жиром молоком матери.
Миновав завистливые взгляды односельчан и пролегший между домами и речной жизнью пустырь, маленькая молчаливая толпа вышла к лежащим на песке лодкам – плоским и длинным, с приподнятыми квадратными носами, с которых забрасывают и правят сеть.
Точно такую я видел накануне на деревенской улице, в процессе рождения.
Она лежала в стружках на катках, и старик поливал черной смолой ее перевернутую новенькую спину. Лодка напоминала вытянутого из воды морского зверя.
А еще днем раньше я разглядывал ту же сценку изготовления лодки в музее – запечатленную на рисунке какого-то давнего путешественника.
Лодки ничуть не изменились.
Но моторы превратили их в быстроходнейшие из судов. И мы, отвалив от причала, опустили в воду винты и понеслись, оставляя легкие буруны, как на гонках, вверх по бескрайней реке.
Придя на место, лодки рассы́пались и исполнили медленный танец.
Маневры были рассчитанны и просты, как движения рук, когда бреется взрослый мужчина.
Нанайцы умели ловить рыбу.
Сеть слушалась их в водной толще, где в нее заходит кета, и вбирала добычу.
Через недолгое время лодки заполнились кетой, молодыми осетрами, и даже попался калужонок в человеческий рост.
Улов покрыли сетями с празднично игравшими на солнце блестками рыбьей чешуи и новогодней зеленью запутавшихся в ячейках водорослей. Пора было приставать.
Для стоянки выбрали один из бесчисленных затопляемых паводком островков, делящих реку на рукава.
Он был низок и весь зарос черными вывихнутыми стволами с узкими серебряными листочками.
Лодки ткнулись в плотный серый песок, усеянный выбеленными солнцем корягами. Из-за этих растительных руин, похожих на костяки вымерших животных, остров казался еще пустынней под крашенным в голубое небом.
Нанайцы спрыгнули в воду и сразу до половины вытащили лодки на берег.
Белый огонь заплясал по выломанным из коряг сучьям.
Над ним повис закопченный котелок.
Прямо на мокрой лопасти весла принялись толстыми ножами готовить талý – закуску из мелко нарубленной сырой осетрины с крошеным луком, перцем, солью и уксусом. С ней хорошо льется в горло водка из просторных алюминиевых кружек.
Подъехал на катере рыбнадзор.
После препирательств заставил выпустить полуживого калужонка.
Нанайцы обиделись и ушли от костра, потом вернулись.
Рыбнадзор присел к котелку, взял миску с ухой, отказался от водки и рассказал в утешенье:
«Прежде рыбы было полно. В узких притоках, куда кета нерестить заходит, не ловили, а вычерпывали. Ведрами или мешками. Я в книжке читал: в девятьсот десятом году тут летом было не продохнуть, так несло с берегов. Икру по огородам запахивали. А куда ее? Без соли не приготовишь. Ну, рыбу вялили. Нынче не стало совсем. Да и где ей нерестить, когда воду плотинами заперли. Калуга та же: рыбина в тонну, черной икры ведра два, царская рыба. Теперь под запретом, ни-ни. Ну, подрастает помаленьку. Тот, нынешний, вовсе молодой. В нем еще и вкусу нет, так, трава. Вот лет пятнадцать, не то двадцать назад тут шах иранский – или сын его, принц? позабыл – путешествовал. Захотел порыбачить. Дали ему катер, лаковый весь, с коврами. Команда, охрана. Ну, повезло. Не рыба – зверюга. Метров, может быть, шесть. Стали его загонять. Да куда там. Ударил хвостом, чуть катер не перевернул. Шах наш за борт. Четверо охранников в воду за ним, вынули. А калуга ушел. Раньше нанайцы с таких вот лодочек острогой били. Ничего, добывали».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
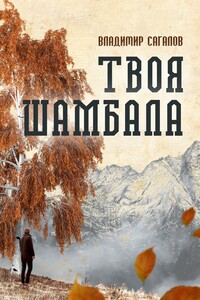
Как найти свою Шамбалу?.. Эта книга – роман-размышление о смысле жизни и пособие для тех, кто хочет обрести внутри себя мир добра и любви. В историю швейцарского бизнесмена Штефана, приехавшего в Россию, гармонично вплетается повествование о деде Штефана, Георге, который в свое время покинул Германию и нашел новую родину на Алтае. В жизни героев романа происходят пугающие события, которые в то же время вынуждают их посмотреть на окружающий мир по-новому и переосмыслить библейскую мудрость-притчу о «тесных и широких вратах».

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.