Гёте - [5]
Один начинающий стихотворец распространялся перед Гёте о муках собственного творчества и был облит ушатом ледяной воды: «О страданиях в искусстве не может быть и речи!» Можно ли было вытерпеть такое из уст автора «Вертера», «Тассо» и «Мариенбадской элегии»? С каким сердцем расставался незадачливый новичок с его превосходительством господином Тайным Советником, в котором он не смог ни увидеть тайны, ни услышать совета, и пришло ли ему вообще в голову элементарное соображение: а можно ли было говорить на эту тему с автором «Вертера»? Едва ли. Сила слова «страдание» настолько вытеснила в нем силу вещи «страдание», что он не в состоянии был осознать очевиднейшей правды услышанного. О страдании в искусстве не может быть и речи, так как сама речь искусства вспоена страданием и есть просветленное страдание. Таков серьезный контекст реплики. Но ей, несомненно, присущ и иной контекст: подвоха, провокации, щелчка по лбу. Ибо распространяться (к тому же не без теоретической подготовки, надо полагать) о страданиях в искусстве — значит просто не иметь к нему никаких отношений, и тогда о них вдвойне не может быть речи, как не может быть речи и о самом искусстве; слишком серьезные партнеры страдания и художник для того, чтобы выбалтывать свою связь открытым текстом, да еще украшенным междометиями и наспех позаимствованными из какой-то научной дисциплины терминами. Эти термины — термиты, пожирающие вещь и мысль; наивернейший признак отсутствия вещи и мысли — слова, нарушающие молчание, слова-выкидыши, непочтительные к смыслу и оттого лишенные смысла, обладающие разве что значением, о котором уже написано и будет еще написано столько научных трудов. Другой случай мы уже приводили — дилемма, с которой пристал к Гёте Лафатер: либо христианин, либо атеист. Состояние Гёте оказалось аналогичным тому, что он пережил при знакомстве с ботаникой Линнея, где весь растительный мир объяснялся путем сведения к номенклатурным рубрикам. Страсть к классификациям, с которой пришлось столкнуться молодому Гёте, была почти болезненной; классифицировали все что угодно, вплоть до мифической фауны, считая, что без этого не может быть ни понимания, ни объяснения. Надо было определяться не только в «табели о рангах», но и во всевозможных иных табелях: о родах, видах, вероисповеданиях, предпочтениях, мировоззрениях, художественных вкусах. Понять что-либо значило просто назвать это; открывалась великая эпоха наименований и анкетных данных. Одни оказывались эмпириками, другие рационалистами, третьи классицистами, четвертые романтиками, пятые христианами, шестые атеистами, но угроза нависала над теми, кто ничем не оказывался, не желая вообще чем-либо оказываться. Случай Гёте — едва ли не величайшая из когда-либо существовавших помех самому принципу классификации, анкетирования, определения через термин. Он действительно не мог ответить ни на один вопрос анкетного типа не потому, что скрывал что-то, а потому именно, что хотел открыть себя. Вот несколько свидетельств времен его прибытия в Веймар: «С каждым мигом растет мое неведение о самом себе» (9, 4(4), 304); «Я все меньше понимаю, кто я такой и что я должен» (9, 6(4), 91). Самое определенное, что он может сказать о себе: «Теперь я чувствую себя здоровым, бесстрастным, без сумбура, без неопределенностей в поступках, но как некто любимый Богом» (9, 4(4), 50). Парадоксально, но именно эта определенность в несколько негативной переформулировке и закрепится за ним впоследствии, когда его все-таки подведут под рубрику «баловень судьбы». «Я знаю, — признался он Эккерману в возрасте восьмидесяти одного года, — для многих я, как бельмо в глазу, и они жаждут от меня избавиться» (3, 608). Бельмо в глазу — принципиальная неанкетируемость человека, подчинившего свою жизнь правилу: «Мы должны быть ничем, но мы хотим стать всем» (9, 1(4), 244). От него же требовали быть: христианином или атеистом, рационалистом или эмпириком, поэтом или ученым. Надо было быть чем-то, и не просто чем-то, а альтернативно чем-то: «или — или». Или поэт, или ученый. Если же становились и тем и другим, то стереотип реакции срабатывал без промаха: не поэт и ученый, а поэтизирующий ученый, в лучшем случае поэт, увлекающийся науками и предвосхитивший кое-что в них. Так, Леонардо, открывший кровообращение, предвосхитил-де Гарвея, Дюрер, написавший первый учебник по прикладной геометрии на немецком языке, был-де гениальным дилетантом, Гёте, творец органики, опять предвосхитил-де Дарвина и т. д. Странная и изрядно сомнительная порода предшественников и предвосхитителей, этаких контрабандистов от науки, лишенных полноценного признания в научном «что-то» только потому, что взыскуют решительно «всё». «Математическая гильдия, — свидетельствует Гёте, — постаралась сделать мое имя в науке настолько подозрительным, что люди опасаются его произносить» (3, 462). Больше всего, конечно, повезло «поэту» Гёте, не считая «баловня судьбы», — его постарались основательно загнать в рубрику «поэзия», хотя и под давлением фактов — с правом несносно-контрабандных вылазок во «всё».

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.
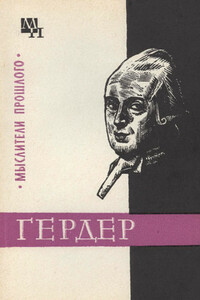
Книга А. В. Гулыги, первым изданием которой в 1963 г. открылась серия «Мыслители прошлого», посвящена немецкому философу, гуманисту и демократу эпохи Просвещения И. Г. Гердеру. Автор дает общую характеристику эпохи, краткий биографический очерк. Гердер — один из творцов историзма; в работе прослеживается возникновение идеи историзма в различных сферах творчества немецкого просветителя. Специальная глава посвящена философии истории. Большое внимание уделяется анализу гердеровской эстетики, оказавшей значительное влияние на последующее развитие эстетической мысли.

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.