Гёте - [3]
Приведенные выдержки — капля в океане — не случайные обмолвки, а едва ли не самый существенный лейтмотив гётевского мировоззрения. Понять их, понять суровейшую неприязнь к словам непревзойденного мастера слова — значит овладеть ключом к тайнику творчества Гёте. Неприязнь к словам — мы слышали уже выше — есть неприязнь к пустым словам. Что есть пустые слова? Для ответа на этот вопрос нам пришлось бы переворошить целые курсы лингвистики, но что поделать — вопрос поставлен, и ответ должен явиться, тем более что без ответа на этот вопрос к Гёте не может быть доступа. Пустые слова — слова, лишенные созерцательности и предметности. Они — продукт рассудка, извне оформляющий данные созерцания, вытравляя из них присущее им самим содержание. Лингвисты позднее назвали их языковыми знаками, которые связывают не вещь и ее название, а лишь понятие вещи с ее акустическим образом.
Поль Валери, один из тех немногих умов, которые по-своему и в силу собственной естественности пришли к мировоззрительному настроению, во многом совпадающему с гётевским, проанализировал ситуацию в следующем наблюдении: «Вы, несомненно, подмечали любопытный факт, когда какое-то слово, которое кажется совершенно ясным, если вы слышите или употребляете его в обиходной речи, и которое не вызывает никаких трудностей, если оно включено в скороговорку обыденной фразы, становится магически затруднительным, приобретает странную сопротивляемость, обезвреживает все попытки определить его, стоит только вам изъять его из обращения, чтобы рассмотреть его со стороны, и искать в нем смысл в отрыве от его насущной функции». «Обратитесь к вашему опыту, — резюмирует Валери, — и вы обнаружите, что мы понимаем других и понимаем самих себя лишь благодаря быстроте нашего перелета по словам. Не следует задерживаться на них, иначе откроется, что наиболее ясная речь сложена из загадок, из более или менее ученых иллюзий» (62, 1317–1318).
Пустые слова, присвоившие себе титул понятия, оказываются, таким образом, более или менее блистательной формой, таящей в себе содержательный иллюзион невнятиц. Быстротой нашего перелета по словам мы обеспечиваем себе не понимание, а лишь иллюзию понимания. Скажем так: понять нечто сложное — значит помимо слова, обозначающего это нечто, погрузиться в само явление и исходить из него. Само по себе слово есть всего лишь символическое упрощение, сокращение, аббревиатура реального содержания. Оно значимо как жест, наводящий силу нашего внимания на смысл; подобно фонарю, освещающему дорогу, оно освещает сущность наблюдаемого явления, и если мы должны смотреть не на фонарь, а себе под ноги, чтобы не спотыкаться, а идти, то это условие сохраняет силу и здесь: сквозь слово должны мы видеть сущность самой вещи, а не застревать в акустическом образе ее. В случае пустых слов вещь называется, но такое название всегда клетка с выпорхнувшим содержанием. Гёте именно здесь настигается шумными комплиментами типа: «величайший гений» и «титан». Формальная правда этих слов — колосс на ногах скороговорки.
С такими колоссами ему пришлось сталкиваться всю жизнь. Он вспоминает эпизод из своей молодости, когда его друг Лафатер, автор знаменитой «Физиогномики» (в написании которой Гёте принимал живейшее участие), стал подступаться к нему с жесткой дилеммой: либо христианин, либо атеист. «В ответ я заявил, что если ему не угодно оставить меня при моем христианстве (как я доселе его понимал), то я, пожалуй, склоняюсь в сторону атеизма, тем более что никто, видно, толком не понимает, что подразумевается под тем и под другим» (2, 3, 514). Впоследствии, когда дилемма все-таки решалась людьми, не способными обойтись без этикеток, он в основном предпочитал хранить молчание, хотя временами его подмывало на провокации. Еще при жизни его сложилась прочная традиция считать его «язычником»; по выходе в свет «Западно-восточного дивана» иные сочли даже, что он обратился в мусульманство. По иным репликам Гёте можно было бы подумать, что он потворствует этим мнениям. Парадоксы возникали изредка и оставались незамеченными. «Язычник» мог, например, назвать себя «чисто протестантским язычником» (9, 26(4), 43), а новоиспеченный «адепт Корана», известный своими нападками на христианскую религию, мог позволить себе и такое признание: «Кто нынче христианин, каким его хотел видеть Христос? Пожалуй, я один, хотя вы и считаете меня язычником» (8, 71). В целом, однако, сохраняло силу однажды сформулированное им правило: «Я вменил себе в обязанность соблюдать о самом себе и о моем пути определенное молчание» (9, 5(4), 144). Поводов для применения этого правила было у него предостаточно. Так, уже за год до смерти пишет он об одном «болтуне», который заговорил с ним о пантеизме: «С великим простодушием заверил я его, что не встречал до сих пор ни одного человека, который знал бы, что означает это слово» (9, 49(4), 127).

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.
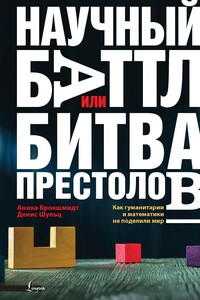
Вы когда-нибудь задавались вопросом, что важнее: физика, химия и биология или история, филология и философия? Самое время поставить точку в вечном споре, тем более что представители двух этих лагерей уже давно требуют суда поединком. Из этой книги вы узнаете массу неожиданных подробностей о жизни выдающихся ученых, которые они предпочли бы скрыть. А также сможете огласить свой вердикт: кто внес наиценнейший вклад в развитие человечества — Григорий Перельман или Оскар Уайльд, Мартин Лютер или Альберт Эйнштейн, Мария Кюри или Томас Манн?

Рене Декарт — выдающийся математик, физик и физиолог. До сих пор мы используем созданную им математическую символику, а его система координат отражает интуитивное представление человека эпохи Нового времени о бесконечном пространстве. Но прежде всего Декарт — философ, предложивший метод радикального сомнения для решения вопроса о познании мира. В «Правилах для руководства ума» он пытается доказать, что результатом любого научного занятия является особое направление ума, и указывает способ достижения истинного знания.
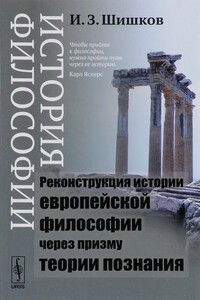
В настоящем учебном пособии осуществлена реконструкция истории философии от Античности до наших дней. При этом автор попытался связать в единую цепочку многочисленные звенья историко-философского процесса и представить историческое развитие философии как сочетание прерывности и непрерывности, новаций и традиций. В работе показано, что такого рода преемственность имеет место не только в историческом наследовании философских идей и принципов, но и в проблемном поле философствования. Такой сквозной проблемой всего историко-философского процесса был и остается вопрос: что значит быть, точнее, как возможно мыслить то, что есть.
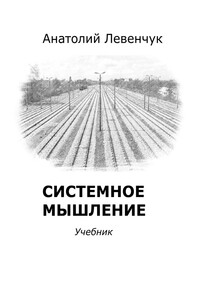
Системное мышление помогает бороться со сложностью в инженерных, менеджерских, предпринимательских и культурных проектах: оно даёт возможность думать по очереди обо всём важном, но при этом не терять взаимовлияний этих по отдельности продуманных моментов. Содержание данного учебника для ВУЗов базируется не столько на традиционной академической литературе по общей теории систем, сколько на современных международных стандартах и публичных документах системной инженерии и инженерии предприятий.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.