Гёте - [4]
Стоит ли и говорить, что самым плачевным выводом из вышесказанного было бы поспешное суждение о наличии у Гёте логофобии, словоненавистничества. Для любителей парадокса мы сказали бы, что это было бы вдвойне плачевным как раз с учетом того, что словоненавистничество и в самом деле присуще Гёте. Парадокс вполне уместный, так как именно на нем можно еще раз проверить собственное умение или неумение отличать пустые слова от… скажем пока, непустых. Вдумаемся для этого хотя бы в само слово «словоненавистничество». Что оно значит именно в данном контексте? Можно — и примеры этого мы уже приводили в достатке— оторвать его от реальной личности самого Гёте, довольствуясь лишь «побрякушками» собрания сочинений, и набрать такой букет свидетельств, что, не знай кто-либо, что речь идет об авторе «Фауста» и даже просто создателе немецкого языка и литературы (как-никак!), у него не осталось бы и капельки сомнения в том, что он имеет дело с заклятым врагом человечества. Между тем истина заключается как раз в противоположном: заклятый враг человечества оказывается на деле величайшим другом его, и для того, чтобы это понять, а не, скажем, просто принять на веру, поскольку этому учили в школе, следует на время отречься от слов, забыть слова, тем более что они свидетельствуют об обратном, и погрузиться в непосредственное наблюдение того феномена, вокруг которого и в связи с которым стало возможным такое количество самых противоречивых слов. Эта процедура, по Гёте, наитруднейшая. «Нет ничего труднее, — говорит он, — чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле» (9, 31(4), 112). Трудность связана прежде всего с тем, что наше восприятие вещи бессознательно сращено со словами и обусловлено словами; мы настолько отвыкли от первозданного, младенчески чистого созерцания вещи и, с другой стороны, настолько привыкли к языковым знакам, что, образно выражаясь, взгляд наш, брошенный на мир, лишь в редких случаях достигает самого мира, без того чтобы по ходу он не был перехвачен мощными пеленгаторами беспредметной лингвистики, коренящейся в самих наших инстинктах. Возникает ситуация, действительно подмеченная многими языковедами; беда в том, что патология восприятия выдается за норму восприятия. Слова, охраняющие, как Цербер, доступ к вещи, подменяют нам саму вещь ее акустическим образом; в результате мы оказываемся замкнутыми в некоей лингвистической монаде, в которой есть и понятие вещи, и ее акустический образ, и еще целый набор терминологических случайностей и нет лишь одного: действительности.
Но, говоря о логофобии Гёте, даже отрывая ее от реального ее контекста, можно ли забыть хоть на секунду, что речь идет о несравненном гении языка. Парадоксальность этого соотношения — чистейший мираж; по существу оно донельзя естественно и очевидно. Именно суровейшая неприязнь к словам могла вызвать к жизни такой сказочный источник словотворчества. Сила гётевского слова — в поэзии или романе, письме или научной заметке — первозданна в самом буквальном смысле («herrlich wie am ersten Tag», как сказано в Прологе «Фауста»). Давно было замечено, что если у других, пусть даже самых значительных поэтов слово передает некое состояние, выражает его или сотворяет, так что в любом случае между ними сохраняется интервал и различие, то у Гёте слово равно самому состоянию, есть оно само, как если бы само состояние (природное явление, душевная страсть или тончайшая мысль, все равно), исполненное глубочайшего содержания, но немое по природе, обрело вдруг дар речи и выговорилось до конца. Это и изумляло современников: романтиков, классиков, философов, политиков, любителей и специалистов, включая августейших особ, от Карла Августа до Наполеона. Изумленный Шиллер писал об умении Гёте «внезапно и полностью высказать тайну сердца в одном-единственном слове». Он и приводит пример такого слова, слова «вечно», произносимого одною из гётевских героинь: «Это единственное слово, на этом месте, равносильно целой долгой истории любви, и вот же, оба влюбленных стоят друг против друга так, словно бы их связь существовала уже многие годы» (5, 1, 139). Подумаем же теперь, сколько таких единственных слов оставил нам в наследие человек, словарь которого исчисляется почти мифическим количеством! И вспомним еще раз, что он сам говорит о происхождении этого словаря: «Непосредственному созерцанию вещей обязан я всем, слова значат для меня меньше, чем когда-либо». Незначимость слова у него — не мировоззренческое кредо иррационалиста или традиционная мистическая тривиальность, а тактический прием мастера, который, сознавая, как никто, магические возможности слова, отлично ведает, с другой стороны, всю ущербность словоупотребления. Поэтому и оказываются возможными внешне взаимоисключающие позиции, которые по сути дела вытекают одна из другой. Лишь в полной мере обнаружив свое жесткое недоверие к словам, мог Гёте решиться и на следующее признание: «Не будь язык, бесспорно, наивысшим, чем мы обладаем, я поставил бы музыку выше языка и превыше всего» (9, 11(2), 170). Но не ему ли, испытаннейшему диалектику опыта, было знать, что на каждый образ есть свой противообраз и что, стало быть, противообразом наивысшего могло бы быть только наинизшее. Оттого стратегия словотворчества сознательно предпочитает тактику словоненавистничества. Гёте, несомненно, подписался бы под саркастической поправкой Киркегора к известному афоризму Талейрана: язык дан нам не для того, чтобы скрывать мысли, но для того, чтобы скрывать отсутствие мыслей. «Добрая вы душа, — сказал он однажды Эккерману в этой связи, — ни мысли, ни наблюдения не интересуют этих людей. Они рады и тому, что в их распоряжении имеются слова для голословия» (3, 276).

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.
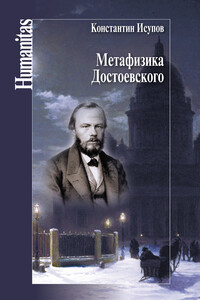
В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».
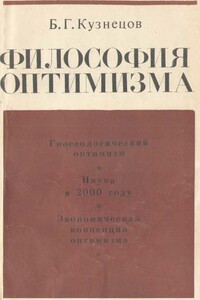
Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.
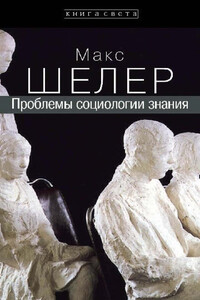
Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.
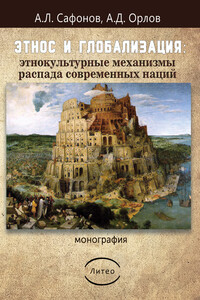
Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.
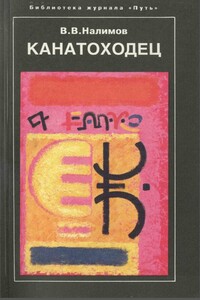
Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.
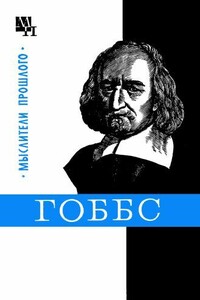
В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.
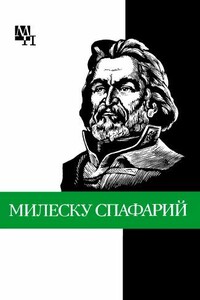
Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.
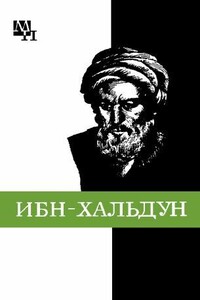
Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.