Гёте - [6]
В «Кротких Ксениях» Гёте есть четверостишие, поразительно напоминающее по стилю и технике исполнения древние даосские параболы. Это — четверостишие-контрапункт, рассчитанное на мало-мальски полифонический слух и абсолютно запечатанное для ушей, реагирующих только на термины:
Буквально: кто обладает наукой и искусством, у того есть и религия; кто ими не обладает, у того пусть будет религия. Это четверостишие вполне объясняет и парадокс гётевской словесности; можно было бы выразить его в следующей парафразе: кто умеет видеть вещи, у того есть и слово; кто не умеет видеть вещи, у того пусть будут слова. Или, как гласит об этом, совершенно по-гётевски, древнекитайская притча: «Ловушкой пользуются для ловли зайца. Поймав зайца, забывают про ловушку. Словами пользуются для того, чтобы внушить смысл. Постигнув смысл, забывают про слова. Где же найти мне забывшего слова человека, чтобы перекинуться с ним словом?» (цит. по: 17, 88). Современная лингвистика в лице некоторых своих наиболее влиятельных адептов постаралась упразднить «зайца», заменив его «денотатом», «референтом» (чем еще?), и оказалась сама в собственной ловушке, которая, разумеется, уже не могла быть забыта. В этой теме Гёте весь — предостережение, весь — противопоказание, весь — зловещий прогноз. Участь мира, опутанного тьмой словесных ловушек, видит и провидит он в сверхмощных апокалиптических картинах. Подумаем: если всё через слово начало быть и без него ничто не начало быть, что начало быть, то что, как не слова, пустые беспредметные слова, уготовили нынче миру сюрпризы беспрецедентных катастроф — от колдовской власти буквы до экологического кризиса, включая и сумму бесплодных словесных фиксаций происходящего, отмеченных безблагодатностью все того же слова! Оставим в покое экзистенциальных философов, набивших себе руку на подобного рода фиксациях; послушаем-ка лучше свидетельство крупнейшего ученого, одного из создателей молекулярной биологии, тем более что, не знай мы, кому принадлежит это свидетельство, оно вполне могло бы сойти — семантически и стилистически — за образец сартровской или ясперсовской философской прозы. «Человек, — пишет Жак Моно, нобелевский лауреат, — должен наконец пробудиться от тысячелетнего сна, и, пробудившись, он окажется в полном одиночестве, в абсолютной изоляции. Лишь тогда он наконец осознает, что, подобно цыгану, живет на краю чуждого ему мира. Мира, глухого к его музыке, безразличного к его чаяниям, равно как и к его страданиям или преступлениям» (цит. по: 19, 43). Позволительно дополнить этот отрывок крохотной и радикально меняющей его смысл поправкой: следовало бы говорить не о мире как таковом, но о мире, сотворенном пустыми словами и вытеснившем Слово, мире, дегуманизированном знаками и значениями, которым вдруг вздумалось роптать на собственный же искусственный эксперимент синтезации глухоты, немоты и безразличия. «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, — nicht mir» — «Ты равен духу, которого ты познаешь, — не мне», — мог бы словами Духа Земли из «Фауста» ответить на вышеприведенную ламентацию действительный естественный мир. Глухота и безразличие мира в устах позволяющего себе подобный стиль ученого — всего лишь обворожительные метафоры, столь же сомнительные, как «заброшенность» и «ненадежность» экзистенциалистов. По сути дела они — бессознательная проекция на мир собственной глухоты и безразличия, и в этом самопроецировании уличает их автор «Фауста».
Мир Гёте донельзя иной, настолько иной, что одно и то же слово, «мир», взятое в этих двух контекстах, выглядит сущим антонимом. Здесь нет никакой нужды пробуждаться от тысячелетнего сна, ибо в мире этом царит тысячелетнее бодрствование. Этот мир не глух и не безразличен к слову, если слово не навязывает ему собственных лингвистических правил, а предоставляется в его распоряжение, дабы сам он получил возможность выговориться о себе; мир, о котором сказал однажды Гёте, что считал его всегда гениальнее собственного гения, и который воспел однажды в порыве дифирамбического восторга: «Природа! Мы окружены и охвачены ею и не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошеная и нежданная, захватывает она нас в круговорот своего танца и несется с нами, покуда мы не выбиваемся из сил и не выпадаем из ее рук…
Все люди в ней, и она во всех. Со всеми ведет она дружескую игру и радуется по мере того, чем больше у нее выигрывают. Со многими она скрытно играет так, что игра подходит к концу, прежде чем они это заметят.
Даже неестественное есть природа, на самом грубом филистерстве лежит нечто от ее гения. Кто не видит ее повсюду, тот нигде не видит ее перед собой.
Она любит себя и навеки прикована к себе бесчисленными глазами и сердцами. Она расчленилась для того, чтобы наслаждаться собою. Все новых и новых гурманов пробуждает она в своем ненасытимом стремлении передаться…
Она позволяет всякому ребенку мудрить над собой, каждому глупцу судить о ней; тысячам тупо проходить мимо и ничего не видеть; и во всех она имеет радость и со всеми ведет свой расчет.

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.
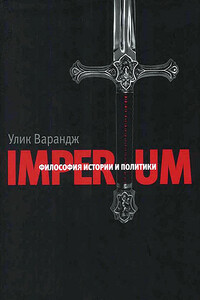
Данное произведение создано в русле цивилизационного подхода к истории, хотя вслед за О. Шпенглером Фрэнсис Паркер Йоки считал цивилизацию поздним этапом развития любой культуры как высшей органической формы, приуроченной своим происхождением и развитием к определенному географическому ландшафту. Динамичное развитие идей Шпенглера, подкрепленное остротой политической ситуации (Вторая мировая война), по свежим следам которой была написана книга, делает ее чтение драматическим переживанием. Резко полемический характер текста, как и интерес, которого он заслуживает, отчасти объясняется тем, что его автор представлял проигравшую сторону в глобальном политическом и культурном противостоянии XX века. Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективы текущего, XXI столетия. С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно.
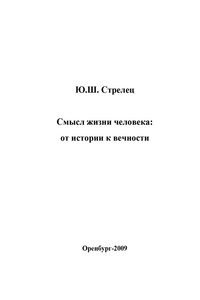
Монография посвящена исследованию главного вопроса философской антропологии – о смысле человеческой жизни, ответ на который важен не только в теоретическом, но и в практическом отношении: как «витаминный комплекс», необходимый для полноценного существования. В работе дан исторический обзор смысложизненных концепций, охватывающий период с древневосточной и античной мысли до современной. Смысл жизни исследуется в свете философии абсурда, в аспекте цели и ценности жизни, ее индивидуального и универсального содержания.

Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.
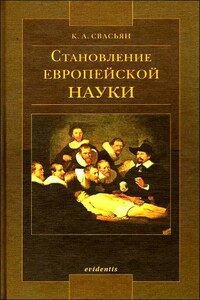
Первая часть книги "Становление европейской науки" посвящена истории общеевропейской культуры, причем в моментах, казалось бы, наиболее отдаленных от непосредственного феномена самой науки. По мнению автора, "все злоключения науки начались с того, что ее отделили от искусства, вытравляя из нее все личностное…". Вторая часть исследования посвящена собственно науке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.
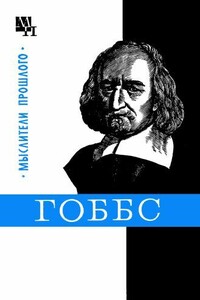
В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.
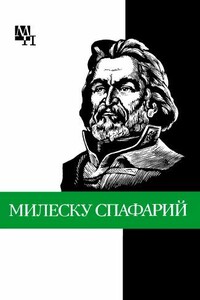
Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.
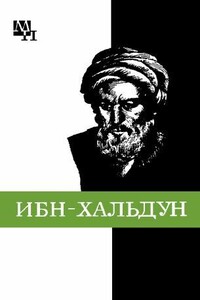
Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.