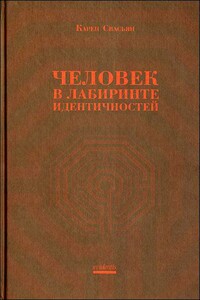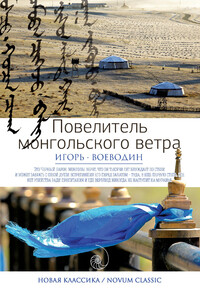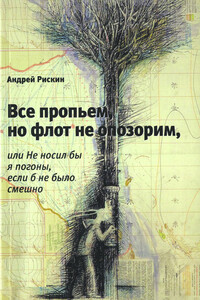1.
Человек в лабиринте идентичностей. Если это диагноз, то путь от него ведет сначала назад к анамнезу и только потом уже к перспективам: самоидентификации или — распада. Немного острого внимания, и взору предстает картина, потенцируемая философски: в проблему, а нозологически: в болезнь. Что человек уже с первых шагов, делаемых им в пространстве истории, бьется головой о проблему своей идентичности, доказывается множеством древнейших свидетельств, среди которых решающее место принадлежит дельфийскому оракулу «познай самого себя». Характерно, что он продолжает биться об нее даже после того как ему взбрело в голову огласить конец истории, и сделать это там, где история еще даже толком не началась, хотя истории оттуда вот уже с полвека как задается тон. Общее между Сократом и кем — нибудь из «нас» то, что оба не знают, что есть человек. Только незнание первого знает себя, как незнание, а незнание второго, ничего о себе не зная, выдает себя за знание. Лабиринт — человек в тупике идентичностей: сознание, попавшее в голову, как в ловушку, и тщетно ищущее выхода в мир, который оно никогда не найдет, пока не вспомнит, что вошло в голову из мира и — как мир. Выстраивая лабиринт, Дедал перманентно выходит из него, чтобы смешение путей не сплелось в тупик, который есть не больше, чем тупость поиска в топографии сплошных выходов. Образец тупика мы находим в одном старом «Словаре философских понятий», добротность которого и по сей день гарантирует ему актуальность:[1] «История понятия Я демонстрирует, что Я толкуется то как душа, субстанция, то как действие, синтез, единство, как чувство и воля, то как комплекс, продукт ассоциаций, то как тело, то как нечто изначальное, реальное, сущностное, то как производное, как продукт, как явление или иллюзия». Еще пестрее выглядит история определений (или характеристик) человека, от анекдотически платоновского двуногого существа без перьев до шелеровского Neinsagenkönner. Пестрота — пестрота предикатов, варьирующих неизменность «животного» субъекта. У Аристотеля это ζφον πολιτικόν; у Стобея — животное с прямой походкой, смесь из слизи и желчи; у Августина (и уже для всей схоластики) — animal rationale mortale; у Монтеня — ничтожнейшее и несчастнейшее животное; у Франклина — животное, изготовляющее орудия; у Руссо — развращенное порочное животное (un animal däprave); у Канта — животное, способное к самосовершенствованию; у Кассирера — животное символическое. Макс Шелер[2] подводит итог этому калейдоскопу дефиниций в режущем, как нож, заключении: «Если спросить образованного европейца, о чем он думает при слове „человек“, то в голове его почти всегда сплетаются три абсолютно несовместимых друг с другом круга идей. Во — первых, это круг представлений иудео — христианской традиции, идущей от Адама и Евы, творения, рая и грехопадения. Во — вторых, это греко — античный круг представлений, в котором человек впервые достиг осознания своего особого положения в тезисе, что человеком он является благодаря „разуму“, логосу, фронесису, ratio, mens — логос означает здесь как речь, так и способность осмысливать „что“ всех вещей; с этим воззрением тесно связано учение, что и вселенная покоится на некоем сверхчеловеческом разуме, к которому из всех существ причастен только человек. Третий круг представлений есть также с давних времен ставший традиционным круг идей современного естествознания и генетической психологии, согласно которому человек есть поздний конечный результат развития земной планеты […]. Эти три круга представлений начисто лишены какого — либо единства. Таким образом, мы располагаем естественнонаучной, философской и теологической антропологией, которым нет дела друг до друга, — единой же идеи человека у нас нет».
2.
В посмертно изданном очерке «Человек и история»[3] Шелер дополняет эти три традиционные антропологии двумя новейшими, которые при всей вызывающей новизне и резкости разрыва с традицией лишь обнажают её абсурдные импликации. Первую из них (по счету четвертую) Шелер характеризует как противоестественную и как диссонанс. Человек в этой антропологии уже не религиозное существо, не homo sapiens, ни даже homo faber, а «дезертир жизни». Если эволюционная теория говорит о тупиках развития, имея в виду отдельные виды, то с точки зрения названной антропологии человек тупик не развития, а жизни вообще, которая, изобретя дух, стала болезнью. Шелер цитирует голландского анатома Болька: «Человек — это инфантильная обезьяна с нарушенной функцией внутренней секреции». Масштаб дезертирства в этой дефиниции впечатляет не только лихостью посылок, но и их рыхлостью; нужно просто додумать и сформулировать её до конца, чтобы оценить её по достоинству; «Человек — это инфантильная обезьяна с нарушенной функцией внутренней секреции, что не мешает ей быть, между прочим, ученым анатомом и знать это». К представителям названной антропологии Шелер относит философа Клагеса, палеонтолога Даке, этнолога Фробениуса, Шпенглера, теоретика фикционализма Файхингера, а также «искушенного публициста» Теодора Лессинга с его более изощренным аналогом больковского инфантилизма («Человек — это вид хищной обезьяны, впавшей в манию величия из — за своего так называемого „духа“»). Её отличие от пятой (последней, по Шелеру) антропологии заключается в том, что она настолько же унижает человека, насколько эта последняя возвышает его, так что человек, не дотягивающийся в одном случае даже до уровня здоровой обезьяны, возносится в другом случае до ранга божества. Эту пятую идею человека Шелер находит у Николая Гартманна и Дитриха Генриха Керлера. Речь идет о своеобразном атеизме, где бытие Бога объявляется не недоказуемым, ни даже непостижимым, а просто нежелательным, — по аналогии с противоположной позицией Канта, который, упразднив, как ему казалось, доказательства бытия Бога, перенес идею Бога в этическое и сделал её «общезначимым постулатом практического разума». «Постулаторному теизму» Канта противопоставлен здесь «постулаторный атеизм ответственности», в котором дело идет вовсе не о том, есть ли Бог и можно ли доказать его существование, а о том, что Богу нельзя быть, если человек хочет быть свободным и взять на себя всю ответственность за творение. Шелер цитирует следующие строки из письма к нему молодого и рано умершего философа Дитриха Генриха Керлера: «Какое мне дело до мировой основы, когда я, как нравственное существо, ясно и отчетливо знаю, что есть добро, и что мне нужно делать? Если эта мировая основа вообще существует, и если она совпадает с тем, что я считаю добром, то я готов чтить её, как друга; но если она не совпадает с этим, то плевать мне на нее, хотя бы она и стерла меня в порошок со всеми моими целями». Русскому читателю не следовало бы спешить проводить параллель между этим пафосом и «человекобожием» русской религиозной философии, потому что их видимое сродство корректируется не общностью текстов, а разностью контекстов. Топика человекобожия абсолютно гетерогенна топике постулаторного атеизма. В одном случае, это оборотень бого — человечества в черно — белой оптике пуэрильного манихейства, в другом случае, зрелость сознания, которое оттого и решается на самоволие, что хочет и саму волю понимать как максимум ответственности и долга.