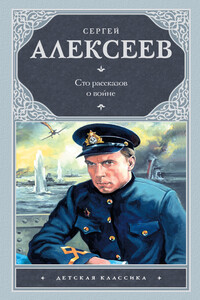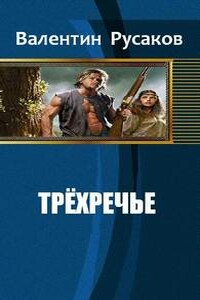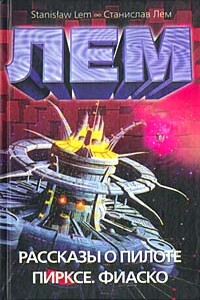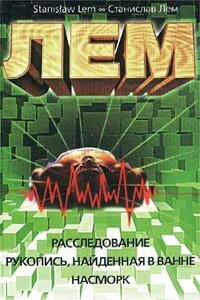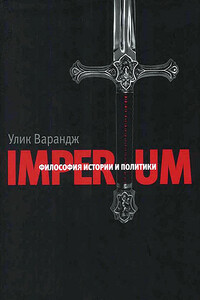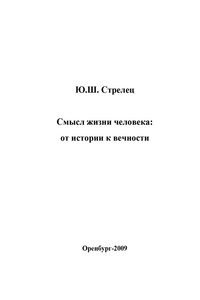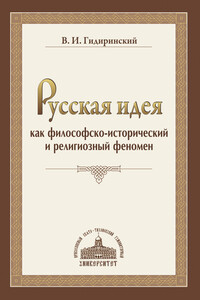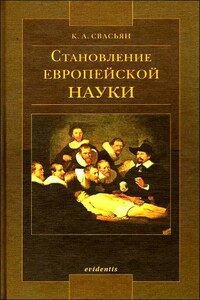Обращаясь к «Философии символических форм», исследователь уже на самом пороге анализа сталкивается с первой трудностью, осмыслить и осилить которую будет стоить ему немалых усилий. Историко-философская этикетка «неокантианец», приклеенная — и не без оснований — к характеристике Эрнста Кассирера, настолько фрагментарно и в ряде мест даже неверно характеризует его мысль, что скорее запутывает, чем проясняет внимание исследователя. Определить истоки и предпосылки философии Кассирера — задача нелегкая, тем более нелегкая, что и в самой этой философии нелегко сочетаются зачастую противоположные тенденции; «неокантианец», стиснутый нетерпимыми предписаниями трех кантовских «Критик», безудержно рвется здесь (мы увидим еще) вспять и вперед. Приставка «нео» оказалась в судьбах кантианства центробежной силой; навязчивый лозунг Отто Либмана «Назад к Канту!», порожденный энтузиазмом философски участившегося пульса, выявил в скором времени всю свою опрометчивость, ибо «назад к…» реально обнаружило себя как «назад через…», либо даже как «вперед от…». Оба порыва были зафиксированы в остром тезисе Виндельбанда, гласящем, что «понять Канта, значит выйти за его пределы»;[1] любопытно спросить: что, с точки зрения самого Канта, могло бы быть за его пределами? Самый короткий перечень будет здесь достаточен: интеллектуальная (!) интуиция, признанная Когеном; трансцендентность (!) предмета познания у Риккерта; категориальное (!) переживание (!) сверхчувственного (!), допускаемое Ласком. Серия восклицательных знаков вполне выразительно говорит за себя; эти же знаки в определенном ракурсе становятся вопросительными, бросая тень вопроса на само словообразование «неокантианец», которое оказывается contradictio in praepositione, противоречивейшим существом. Отмеченные порывы сполна наличествуют и у Кассирера; зачастую столь властно, что он в самых неподходящих случаях странным образом и довольно неубедительно вспоминает (лучше сказать, поминает) вдруг Канта, словно бы заверяя свою верность ему — верность, вряд ли имеющую что-либо общее с прославленной deutsche Treue, ибо о какой же верности Канту может идти речь в сплошных реминисценциях неоплатонизма! Судьба этих порывов (а иногда и срывов) рисует нам своеобразную мозаику мыслей, провоцирующую умственную леность исследователя на шаблон очередной этикетки «эклектик». Но исследователь, утрудивший себя чтением и прочтением «Философии символических форм», не удовлетворится подобной оценкой; Кассирер не так прост, чтобы можно было попросту регистрировать его sui generis «словечками»; мысль его открыта всему философскому наследию прошлого и пропитана многими значительными веяниями этого наследия. Следует, впрочем, отметить, что перечень этих веяний, каким бы интересным ни был он сам по себе, не должен заслонять их трансформацию и новый своеобразный вид в преломлении мысли немецкого философа. К Кассиреру в этом отношении вряд ли приложима язвительно-меткая характеристика Эд. фон Гартмана, назвавшего современную философию