Фракийская книга мертвых - [21]
Со второй попытки он ухитрился заползти так, как это делают звери, мордой вперед. Наконец его кроссовки исчезли из глаз. Борис уполз в новый мир, а я осталась оплакивать своего неразумного братца. Да, наверняка он был мне братом в иной жизни. Наверно, я его лупила, мучила, но и вела за руку по узким закоулкам судьбы. Наверняка нас неудержимо влекло к инцесту, который стал возможен лишь теперь. Представляю, как удивится Сатни, увидев еще одного представителя славного человеческого рода. Утгард… Знакомый топоним. Так называлась страна волшебников в скандинавских мифах. Ее населяли великаны, державшие нейтралитет по отношению к противоборствующим силам богов. Того же корня шумерский бог Уту, строитель ковчега Утнапиштим, а также, вероятно, русское утро.
Толковать древние имена — сомнительное занятие, ибо именно они неоднократно переводились с языка на язык, все более утрачивая первоначальное звучание. Так, цари атлантов получили имена-кальки сначала от египтян, потом от греков; в поисках созвучий и аналогий можно зайти слишком далеко. Скажем, на румынском reu — зло, то же означает ra на иврите. Свидетельствует ли это о ностратических связях между двумя языковыми семьями? hu на албанском шест, деревянный идол, huini — божество, huinor — небесный. Кажется очевидной связь с русским именованием мужского детородного органа, в честь которого воздвигались повсеместно так называемые фаллосы. Точно так же русский бог Хорс считается близнецом египетского Гора, а Сварог — вариантом Варуны индусов. На фракийском «вара» — смертельная рана, отсюда «свара», усобица; следственно, «сваргой» русичи называли рай воинов, и Сварог был правителем этого мира мертвых, подобно скандинавскому Одину.
Около люка-чаши я оставила моток бечевки, с помощью которой теперь выберусь наверх. Я встала, решительно шагнула прочь от отверстия норы. Зацепилась за камень. Упала. Под коленями зашуршал песок. Он ссыпался в воронку норы, и меня повлекло туда же. Видимо, Борис что-то нарушил своим вмешательством: воронка стремительно расширялась. Я попыталась зацепиться за края, но тщетно.
С набитыми песком и пылью ноздрями я вывалилась, наконец, к подножию холма. Надо мной нависал Сатни. Он смотрел без всякого участия, как это свойственно змееголовым. Меня кольнуло острое чувство вины и стыда. И — беспощадной достоверности происходящего. Я лежала в мелкой лужице, грязная, мокрая, со спутанными волосами, запутавшаяся в своих лингвистических конструкциях и по привычке готовая отнести к категории воображаемого все, что не укладывалось в рамки моего ума.
Только один миг, пока я смотрела, не отрываясь, в глаза змееголового, я осознавала вполне свой маразм и ничтожество своих потуг перед лицом таких простых вещей, как трава, солнце, жизнь. Потом машинка в мозгу принялась снова жужжать, сопоставлять, приводить в систему. Я поняла, что сейчас открою рот и произнесу очередную пошлость, и снова завертится колесо выморочной жизни, из которой мне не выпрыгнуть, не удержаться на тонком луче змеиных глаз Сатни, потому что я не найду внутри себя той главной опоры, без которой судьба — лишь россыпь бусинок-событий.
Поэтому я решила молчать по преимуществу. Встав, огляделась, но не увидела Бориса поблизости. Со всей учтивостью, которая доказывала мое доверие к его существованию, поздоровалась.
— Я такой же, как ты. Не стоит робеть. — Сатни протянул ко мне чешуйчатую лапу. — Речь о внутренней сущности. То, что мы отличаемся внешне, указывает лишь на особенности наших жизненных задач.
— Знаешь, Сатни, стоит мне оказаться вновь в привычном мире, как ты и твои слова не то, чтобы забывались, но они теряют свою достоверность, становятся похожими на сон, и это меня мучит.
— Вопросы диалектики сна и бодрствования занимали многих мудрецов. Остановимся на том, что эти понятия обозначают соответственно два лица, две фазы, две половинки яблока.
— Сюда должен был выпасть еще один. Мужчина.
Его капюшон раздулся, может быть, от негодования:
— Здесь не может быть людей.
— Я имею в виду, прошел через святилище.
— А, этот. Он не выдержал испытания.
— И что же? Его пустили на корм чайкам?
— Нет. Рикошетом отброшен обратно.
— Сатни, пока я здесь и в ясном сознании, объясни, кто ты?
— Я простой служитель храма.
— Сатни, я знаю, ты не поймешь чужую жизнь, но знаешь, я оказалась втянута в эту историю помимо своей воли. С тех пор, как наша экспедиция погибла, я прожила жизнь, я состарилась и вернулась в детство, и теперь, мне кажется, я знаю, для чего это было нужно.
— Гаруды летят, — вдруг прервал мою исповедь Сатни. Следуя его примеру, я упала и поползла, выбирая места посуше. Но где мне сравняться с нагой! Как никогда ясно были видны преимущества его змеиной природы. Когда хвост спутника исчез среди кустов, я, запаниковав, вскочила. Мой бег вприпрыжку пресек резкий удар когтей. По спине прокатилась волна боли. Я завизжала. В ответ раздался пронзительный клекот. Мои ноги оторвались от земли. Какая-то тварь подняла меня в воздух. Сверху я хорошо их разглядела. Это были симпатичные ящеры, их лица портил лишь двойной ряд пилообразных зубов. В лицо ударил резкий ветер. Меня замотало из стороны в сторону. Потом тот, кто держал меня, закрутился, как волчок, и обрушился на землю. От ящера несло падалью. Сатни буквально выволок меня из-под тяжелого тела, увел в заросли.

«Иглу ведут стежок за стежком по ткани, — развивал свою идею учитель. — Нить с этой стороны — жизнь, нить по ту сторону — смерть, а на самом деле игла одна, и нить одна, и это выше жизни и смерти! Назови ткань материальной природой, назови нить шельтом, а иглу — монадой, и готова история воплощенной души. Этот мир, могучий и волшебный, боится умереть, как роженица — родить. Смерти нет, друзья мои!».
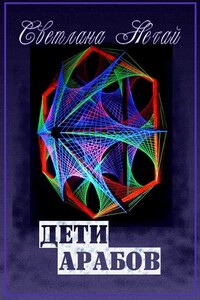
«Я стиснул руки, стараясь удержать рвущееся прочь сознание. Кто-то сильный и решительный выбирался, выламывался из меня, как зверь из кустов. Я должен стать собой. Эта гигантская змея — мое настоящее тело. Чего же я медлю?! Радужное оперение дракона слепило меня. Я выкинул вперед когтистую лапу — и с грохотом рухнул, увлекая за собой столик и дорогой фарфор».