Фотографическое: опыт теории расхождений - [73]
56. Марк Рибу. Фотографический мастер-класс. Каруйзава. Япония. 1958. Желатинно-серебряная фотография. 58 × 77 см. Национальный музей современного искусства – Центр Жоржа Помпиду, Париж
Комментарий Кон-Бендита, напечатанный в «Либерасьон», прерывается на последнем «это…» как на отчаянной попытке высказать, что же он видит, как на последнем, но, само собой разумеется, не конечном пункте потенциально бесконечного списка возможных сюжетов: даже минутная речь вместила в себя целых семь предположений о том, что же это такое.
В сущности, реакция политика ничем не отличается ни от реакции Маргерит Дюрас, которая выдвинула для своей фотографии восемь версий, ни, по большому счету, от реакции фотографа Мартины Франк: она тоже начала с попыток определиться с сюжетом и лишь затем задумалась о проблеме, которую присутствие в одном месте множества фотографов может представлять для эстетического статуса фотографии. И что удивительно, это краткое размышление спокойно проходит сквозь изображение, как будто оно прозрачное, чтобы расположиться за ним, в области все тех же «то или это». Мимолетная попытка фотографической критики, предпринятая Мартиной Франк, касается снимков, которые мог бы сделать кто-то из запечатленных Рибу фотографов-любителей, и не содержит даже намека на эстетические вопросы по поводу качества работы, на которую она смотрит, по поводу того, учтены ли в ней каким-либо образом ее структурные условия и т. п. Все как один сосредоточенные на «этом», приведенные комментарии образуют крайне примитивный эстетический дискурс, к которому, надо полагать, еще более откровенно – и тут уже не будет ничего неожиданного – тяготеют реакции людей с улицы.
Вот, например, владелец завода комментирует снимок Мари-Поль Негр в Люксембургском саду (1979), о котором сразу можно сказать, что особенности места и атмосферы используются в нем, чтобы воссоздать в пространстве фотографического сюжета ограничения, предполагаемые плоскостью и границами кадра. Замечания делового человека подхватывают уже знакомый нам сонный мотив:
Это прибытие поезда, это прибытие поезда во сне: девушка ждет кого-то, но встречает явно не того, кого ждала. Мужчина, которого она ждала, похоже, ну… несколько не в форме, постарел, а она ждала кого-то… намного моложе… намного… намного красивее, чем этот несколько нелепый человечек, которого мы видим. <…> Она видит сон, и вот во сне она сама более молода, и ее чувства там развиваются так, как она хотела бы, чтобы они развивались сейчас. Это сон, который не сбывается.
И, наконец, вот что говорит ботаник о недавней работе Эдуара Бубá, оммаже Таможеннику Руссо, в котором устанавливается необычное отношение имитации между фотографией и картиной:
Перед деревом – очевидно, это комбретум – мы видим кусты кротона, кротона слабительного, а в глубине – заросли травы, которая называется «цецилия»: возможно, это намек на имя женщины. Женщина очень красивая, судя по тому, что тут можно разглядеть. <…> Она одна, ей холодно, потому что она лежит на мраморных плитах, и ей страшно от того, что ее обступает вся эта зелень, которая разрастается и грозит окружить, опутать, заточить ее со всех сторон. Тогда она решает укрыться в этом подобии склепа, который она только что заметила и теперь заглядывает в него.
Среди рутинного потока догадок и суждений о фотографическом объекте с помощью конструкции «это – …», среди потенциально бесконечной таксономии сюжетов единственным достойным внимания исключением является, пожалуй, комментарий художественного критика Пьера Шнайдера. Говоря о фотографии Франсуа Эрса, он объясняет:
Обои с регулярным цветочным орнаментом – например, в гостиничных номерах – всегда вызывают бессонницу. Глядя на мебель в этой комнате, я говорю себе: все, что покрыто тканью с повторяющимися декоративными мотивами, становится поверхностью, то есть, если вы возьмете картину Матисса двадцатых годов, скажем, с перспективно выстроенным интерьером, с мебелью, которой придан объем и вес… так вот, благодаря ткани этот объем исчезает, и картина превращается в игру цветных поверхностей, которые дышат, потому что Матисс умеет придать им дыхание.
Представление о том, что изображенный объект может быть всего лишь предлогом для реализации какого-либо формального замысла, в данном случае игры цветных поверхностей, для критика современного искусства – вторая натура. И, рассуждая о фотографии, Пьер Шнайдер почти рефлекторно прибегает к рассмотрению визуального поля с точки зрения его формальной конфигурации. Однако делает ли это подход критика более законным, чем другие, более примитивные реакции? Вопрос.
Он приводит нас в самую сердцевину проблематики Бурдьё. По его мнению, фотографический дискурс никогда не может стать собственно эстетическим, то есть сделать эстетические критерии своими: даже самое общее фотографическое суждение обращено не к ценности, а к идентичности, так как оно толкует вещи с родовой точки зрения и представляет себе реальность в соответствии с природой «сюжета», что и объясняет без конца повторяющиеся «это – это, это – то» в программах Варда. Когда же суждение в достаточной степени отстраняется, чтобы охватить фотографию целиком, не ограничиваясь ее элементами в отдельности, классификация и оценка в основном следуют жанрам: «это пейзаж», «это ню», «это портрет». Но, разумеется, и жанровое суждение принимает во внимание только референт. Если фотография принадлежит к жанру «портрета» или «пейзажа», то потому, что чтение ее содержания позволяет идентифицировать и классифицировать ее по тому или иному типу, а эти типы, если верить Бурдьё, по природе своей подчиняются строгим ограничениям стереотипа.

В книге, посвященной теме взаимоотношений Антона Чехова с евреями, его биография впервые представлена в контексте русско-еврейских культурных связей второй половины XIX — начала ХХ в. Показано, что писатель, как никто другой из классиков русской литературы XIX в., с ранних лет находился в еврейском окружении. При этом его позиция в отношении активного участия евреев в русской культурно-общественной жизни носила сложный, изменчивый характер. Тем не менее, Чехов всегда дистанцировался от любых публичных проявлений ксенофобии, в т. ч.
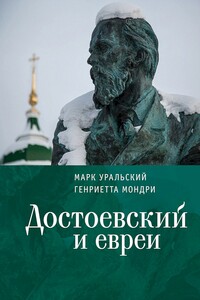
Настоящая книга, написанная писателем-документалистом Марком Уральским (Глава I–VIII) в соавторстве с ученым-филологом, профессором новозеландского университета Кентербери Генриеттой Мондри (Глава IX–XI), посвящена одной из самых сложных в силу своей тенденциозности тем научного достоевсковедения — отношению Федора Достоевского к «еврейскому вопросу» в России и еврейскому народу в целом. В ней на основе большого корпуса документальных материалов исследованы исторические предпосылки возникновения темы «Достоевский и евреи» и дан всесторонний анализ многолетней научно-публицистической дискуссии по этому вопросу. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Основание и социокультурное развитие Санкт-Петербурга отразило кардинальные черты истории России XVIII века. Петербург рассматривается автором как сознательная попытка создать полигон для социальных и культурных преобразований России. Новая резиденция двора функционировала как сцена, на которой нововведения опробовались на практике и демонстрировались. Книга представляет собой описание разных сторон имперской придворной культуры и ежедневной жизни в городе, который был призван стать не только столицей империи, но и «окном в Европу».

Литературу делят на хорошую и плохую, злободневную и нежизнеспособную. Марина Кудимова зашла с неожиданной, кому-то знакомой лишь по святоотеческим творениям стороны — опьянения и трезвения. Речь, разумеется, идет не об употреблении алкоголя, хотя и об этом тоже. Дионисийское начало как основу творчества с античных времен исследовали философы: Ф. Ницше, Вяч, Иванов, Н. Бердяев, Е. Трубецкой и др. О духовной трезвости написано гораздо меньше. Но, по слову преподобного Исихия Иерусалимского: «Трезвение есть твердое водружение помысла ума и стояние его у двери сердца».

В статье анализируется феномен коллективного сексуального насилия, ярко проявившийся за последние несколько лет в Германии в связи наплывом беженцев и мигрантов. В поисках объяснения этого феномена как экспорта гендеризованных форм насилия автор исследует его истоки в форме вторичного анализа данных мониторинга, отслеживая эскалацию и разрывы в практике применения сексуализированного насилия, сопряженного с политической борьбой во время двух египетских революций. Интерсекциональность гендера, этничности, социальных проблем и кризиса власти, рассмотренные в ряде исследований в режиме мониторинга, свидетельствуют о привнесении политических значений в сексуализированное насилие или об инструментализации сексуального насилия политическими силами в борьбе за власть.

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»… Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах – натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, неимоверной ерундой.Перед вами – история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу – она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни.