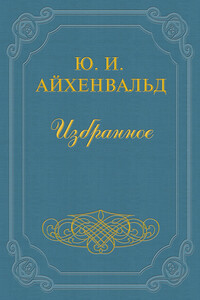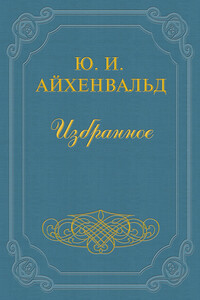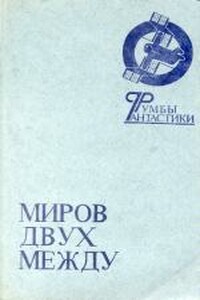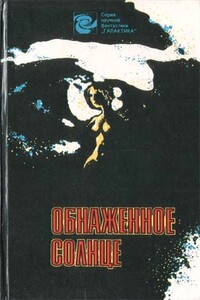Когда наступил для него этот вечер, когда спустилась ночь и в окнах своей усадьбы зажег он вечерние огни, отразившиеся в пруду, у корней плакучей ивы, – тогда, естественно, загорелись для него и звезды: опять женщины. Но уж теперь он любит робко, еще более, чем прежде, – «любовью безвозмездной», и в своем смирении, и в своем бескорыстии знает, что не имеет права на любовь. Он только жаждет молиться молодости, – и вот перед нами это умилительное зрелище, которого нет прекрасней: старик, молящийся юности.
Роящимся мечтам лететь, дав волю,
К твоим стопам,
Тебя никак смущать я не дозволю
Любви словам.
Я знаю, мы из разных поколений
С тобой пришли;
Несходных слов и розных откровений
Мы принесли.
Перед тобой во храмине сердечной
Я затворюсь
И юности ласкающей и вечной
В ней помолюсь.
Ему именно в старости отрадно встречаться с каждым молодым порывом. Ибо молодость не проходит, молодость вечна; не улетают весенние, светлые сны.
И своей больной песнью, которую он понесет ей, юной, под оконце, он не хочет смущать ее покоя. Пусть не болеет болью старого сердца сердце юное, лучезарное. Фет только молит молодую, чтобы она его не избегала:
Не избегай: я не молю
Ни слез, ни сердца тайной боли!
Своей тоске хочу я воли
И повторять тебе «люблю!»
Хочу нестись к тебе, лететь,
Как волны по равнине водной,
Поцеловать гранит холодный,
Поцеловать – и умереть!
Можно сказать, что так с ним и было: он умер с поцелуем на устах. Он умел умереть – окончательно перейти из времени в вечность. За тихою жизнью – тихая смерть. Он хотел, чтобы она предстала ему сновиденьем, он хотел закатиться мирным закатом долгого ясного дня, медленно утонуть в эфирном океане вселенной, раствориться в своей родной воздушной стихии. Он на смерть пошел, как на последнее свидание в жизни, последнюю любовь: ему послышалось чье-то дыхание – это была она. В эти предсмертные мгновения обвеяло ли его отрадой то, что Бога скорее чуешь не в жизни, а в смерти, что
… если жизнь – базар крикливый Бога,
То только смерть – Его бессмертный храм?
И когда он проезжал мимо сельского кладбища, его тихая душа «смиренно праздновала встречу с тихими гробами». Настоящая смерть – это безлюбовное сердце; но в таком смысле удел Фета – бессмертие, потому что, кроме любви, для него на свете не было ничего другого, и с любовью его нельзя было разлучить. «У любви есть слова – те слова не умрут», единственные неумирающие слова. Еще тоньше распылить душу, чем это сделал Фет, уже, кажется, нельзя, – распылить, а потом снова собрать ее в один порыв, в одно вдохновение, в одно славословие прекрасному.
А я по-прежнему, смиренный,
Забытый, кинутый в тени,
Стою, коленопреклоненный,
И красотою умиленный
Зажег вечерние огни.
Так он и опочил на коленях перед своей богиней. И до самой смерти говорил он стихи. Это был дух, который не воплотился, дух, который не осуществил своей грезы. В этом отсутствии прекрасной осязательности и достойных воплощений мы видим его чары – и его слабость. Но важнее всего то, что он много и честно послужил красоте, ее верховный жрец с бородою седою, и вечерние огни его, несомненно, вернулись в лоно красоты и там воссоединились с нею в ее единое вечное сиянье. И доныне все поют и поют его Божьи птички, как ласково называл он свои стихотворения. Он отказался от слова, но великодушно отомстило ему Слово, на нем же, на его произведениях, показав, что нет такой неуловимости и тонкости, которых оно не могло бы назвать, что самое неизреченное и неосязаемое все же послушно и доступно воздушным перстам и устам благословенного поэта.