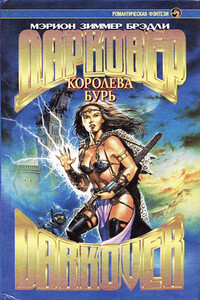Фет - [5]
Сам Фет чужих краев и не любил посещать. Белая петербургская ночь, эта «бледная и вдохновенная ясновидящая», была для него слаще южных,
потому что она – «ночь вполне разоблаченная», а ведь он вообще природу разоблачал, чувствовал ее, как и все на свете, в ее тонкости и в ее обнаженности.
И если эта ночь имеет для него особое лицо, которое всегда томило его нежно и бестелесно, если ночь вообще занимает в его стихах такое видное место, если она для него – как бы самостоятельная, отдельная личность, как бы та третья, которая своим благословением осеняет влюбленных, то это потому, что, и сама обнаженная, и наготу природы являющая, она не тяжела, она легче дня и этой отрешенной легкостью своею ближе, чем день, к миру, т. е. к душе. Больше ночью, чем днем, живет душа. Ночью можно «глядеть в лицо природы спящей и понимать всемирный сон»; ночью, во мраке уединения, виден «единый путь до Божества». И ночь – это женщина. Для Фета же каждая пядь природы дышит зримой или незримой женственностью – в лад его собственному настроению. Дымку этого настроения и своей душевности вообще он набрасывает на свои ландшафты, и поэтому от них становится «сердце опять суеверней», и они рисуют не то, что бросается в глаза, а бесконечно малое, интимное, чуть заметное, которое и есть главное, есть душа. Последнее становится первым.
Одинокое, затерянное в огромном, среди космического индивидуальное – это самое существенное, потому что мир – только окрестности, потому что в центре всегда нахожусь я.
Да, чудная картина! Все мировые перспективы, всё: и тишина, и бег, и пространство – все включено в эти восемь строк, но явственнее всего выглядывает из них чья-то душа.
Но не даром, не напрасно, не праздно есть и мир: весь повторяется он во мне; меж теми звездами и мною какая-то связь родилась. Какая же?..
У Фета есть и пейзажи, красивые в своей определенности, – так сказать, самодовлеющие, образы, прекрасные в своей законченности («и вдалеке земной твердыне морские волны бьют челом»); но и по форме, и по духу наиболее фетовскими являются, например, такие стихи:
Для него знаменательно это недоумение перед тем, что творится кругом и в собственной душе, – как разобраться в этих волнах и волнениях, смутно идущих отовсюду, из средоточия сердца и из окрестностей мира? «В мирозданьи, куда ни обратись, вопрос, а не ответ». Я ничего не пойму…
В самом себе, в жизни он ничего не мог понять, как не понимают люди своих сновидений. Он творил во сне. Когда же непосредственное творчество его духа проходило через философию, через Шопенгауэра, когда он просыпался, тогда он уверял, что жизнь – сон. Мир ускользал от объяснения, оказывался непонятным, и оттого новое истолкование и оправдание получала вдохновенная несвязность Фета: миру непонятному довлеет невнятное.
Все – «только сон, только сон мимолетный». Мира в конце концов нет; природа как объект не существует. Единственная реальность – душа, эта великая сомнамбула, преданная вещим грезам. Душе снится вселенная. Вот, значит, откуда – мгновенья, неуловимое, бестелесное, вся эта воздушность Фета; вот почему и сам он «в этом прозрении и в этом забвении» несется как дым и тает невольно, – свиваются клубки жизненного дыма, и нежно вырисовываются из них очертания женских лиц, и тихой мелодией звучат едва слышные стихотворения: «арфа, ты, арфа моя тихоструйная». Или даже тонет в этом клубящемся потоке неопределенности сама любовь и женщина, – любовь наша «робкая и бедная». Там, где отдельные черты сливаются в мерцании общих далей, в одном космическом испарении, – там уже теряет свою важность и свой особый лик все человеческое:
В этих неопределимых волнах, как во сне, ничто не занимает места, нигде нет плотности и плоти. Но именно потому ничто не заслоняет вечности, и поэт прямо смотрит из времени в вечность; он имеет непосредственное общение с нею в дуновении счастья, в жгучей ласке, в дыхании космоса. Стихийное, отрешенное, неземное раскрывается в миг любви. Чуждую запредельную стихию я зачерпываю своим вдохновеньем. Фет мгновение не противопоставляет вечности – человек именно ее, вечность, испытывает в свое земное мгновение. Преграды и бездны, времена и пространства, трагическая материальность мира и все это сопротивление вещей исчезает, улетучивается, и мое психическое вездесущие, проникая, как призрак, непроницаемые предметы, торжествует свою внутреннюю победу. Не потому поэт благоговеет перед Богом, что над нами расстилается звездное небо, отрада возвышенного Канта, и сияет солнце, – он всей этой настойчивой, тяжелой, для других столь убедительной внешности не принимает, ей не верит: она только снится. Несомненно лишь одно: мне снится, – значит, я существую. Среди сомнительного я, грезящий, один несомненен. Может быть, и нет никого другого, – поэзию Фета недаром отличает художественный солипсизм, и отсутствует в ней все общественное, и субъективна она до эгоистичности, до праздности, и есть в ней что-то недоброе, осуждающее…

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
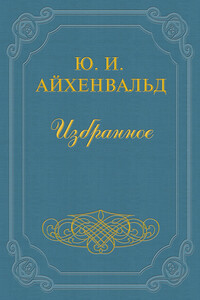
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
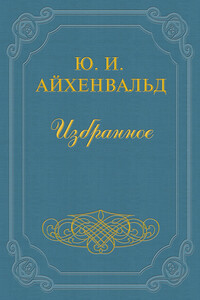
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.
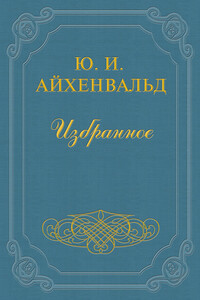
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

Елена Хаецкая (автор) публиковала эти записки с июня 2016 по (март) 2019 на сайте журнала "ПитерBOOK". О фэнтэзи, истории, жизни...

Обзор советской научно-фантастической литературы за 1961 год. Опубликовано: журнал «Техника — молодежи». — 1961. — № 12. — С. 14–16.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рецензия – первый и единственный отклик Белинского на творчество Г.-Х. Андерсена. Роман «Импровизатор» (1835) был первым произведением Андерсена, переведенным на русский язык. Перевод был осуществлен по инициативе Я. К. Грота его сестрой Р. К. Грот и первоначально публиковался в журнале «Современник» за 1844 г. Как видно из рецензии, Андерсен-сказочник Белинскому еще не был известен; расцвет этого жанра в творчестве писателя падает на конец 1830 – начало 1840-х гг. Что касается романа «Импровизатор», то он не выходил за рамки традиционно-романтического произведения с довольно бесцветным героем в центре, с характерными натяжками в ведении сюжета.

Настоящая заметка была ответом на рецензию Ф. Булгарина «Петр Басманов. Трагедия в пяти действиях. Соч. барона Розена…» («Северная пчела», 1835, № 251, 252, подпись: Кси). Булгарин обвинил молодых авторов «Телескопа» и «Молвы», прежде всего Белинского, в отсутствии патриотизма, в ренегатстве. На защиту Белинского выступил позднее Надеждин в статье «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности».