Фет - [6]
«Бессильный и мгновенный», я, единственный, однако, ношу в груди «огонь сильней и ярче всей вселенной» – свою душу. И поэт поет гимн этому внутреннему солнцу, которое краше и светлее солнца внешнего, солнца верхнего. Для Фета последнее – только «мертвец с пылающим лицом»: какой это страшный образ! Солнце – только животворящий мертвец или мертвый животворец, и внутри так оно холодно, безжизненно, темно – этот податель тепла, и жизни, и света! Ему ли тягаться с моим бессмертным солнцем, которое никогда не погаснет, пока буду я, пока горит мое сознание! В моей заветной глубине слитно живет все мирозданье, и если я освобожу его от всякого давленья извне, если я нравственно выйду из «голубой тюрьмы» вселенной, то я как высшую победу осуществлю и то, что отрешусь от своих «невольничьих тревог» и достигну тех «незапятнанных высот», где не знают человеческого различения между добром и злом, где прекрасное не зарабатывается. «Лишь незаслуженное – благо». Этика стелется по земле: в своем духовном полете я оставляю их обе, а наверху – только одна красота.
Это – глубокое оправдание лиризма. Нельзя называть Фета ограниченным, нельзя упрекать его в том, что он – только лирик: ничего другого и не должен, и не может представить собою поэт, если мир – сновидение, если фактов нет, если объекты – это миражи. Есть душевные состояния, и вот их, растворяясь в лиризме, показал нам художник-человек. Но Художник мировой этим не удовольствовался и от своих сновидений перешел к яви и создал реальность – лучший из всех возможных миров. За Ним последовали поэты пушкинского типа. У Фета же для яви недостало сил. Он так и остался в сновидениях, в представлениях, этот зодчий призраков. Если бы был только Фет, негде было бы жить. Когда же он хотел переноситься на почву эпическую, неколебимую, когда он рассказывал о событиях и предметах, – ему эта объективность не давалась, и перед нами опять возникали одни настроения, одно явление вещей в духе, – а самые вещи, может быть, и не существуют, и только сонные грезы они. В фетовском зачарованном царстве призраков и теней нет места эпосу: все бы разрушила его тяжелая поступь. Даже когда наш поэт глядит на статую, он не может представить себе ее неподвижной и бесстрастной: он оживляет ее, изваянную душу, и в замечательном стихотворении так удивляется спокойствию Дианы, девственной богини рожающих женщин:
Он ждал, Фет, движения и чувства, он хотел Дианы лирической. Как она могла быть чуткой и все же каменной; как могла она быть равнодушной к ветру и заре, как могла она внимать молению дев в тяжелых муках чрева и не сойти и не пойти с колчаном и стрелами? В белеющей красе недвижимого мрамора есть то непостижимое, что она довлеет себе и застыла в своем величии, в своей эпической строгости. Но он недолго будет стоять у мраморов, наш дивный певец, он отдаст им свой изумленный поклон, найдет и для них высокий отзвук на своей лирической лире и уйдет дальше – в свою и, отраженно, в чужую душу. И когда перед ним, облитый светом полночной луны, подымется одинокий старинный монастырь, поэт и в нем увидит не камни, а нечто живое, грезящее, и обратится к нему, как к живому:
и из глубины, из души развалин послышится ему грустная симфония печали, и будет звучать во тьме орган.
Если на свете есть только дух и красота, то понятно, отчего Фет не боится смерти и отчего старость не осилила его: разве существует старость для Венеры Милосской? Времена приходят, и времена уходят, но красота пребывает, как Венера, которая целомудренно и смело осталась от прошедших веков и принадлежит вечности – в нее она и смотрит.
В другом облике, но в той же сущности донес и Фет до могилы свою душу, донес ее неутомленной, неразделившейся, как он сам радостно об этом говорит:
Это редкое и глубокое счастье – не знать дележа души, не рассекать ее какой-нибудь роковой межой. Фету как художнику суждена была человеческая цельность. Так как молодость его была не кипучая, не бурная, а легкая и непринужденная, как его стихи, то и старость не оказалась слишком разнящейся от нее – не было этого обычного контраста. Его спасла его поэзия – сочетание страсти и сна, чувственности и эфира. И потому в поздний вечер жизни, когда «при луне, на жизненном кладбище, страшна и ночь и собственная тень», когда «дыханье множит муки», он все еще ждал, не откликнется ли кто-нибудь на зов далекой юности. Как тополь своего стихотворения, он один над мертвыми степями помнил теплый юг своей молодости. Он умел быть старым.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
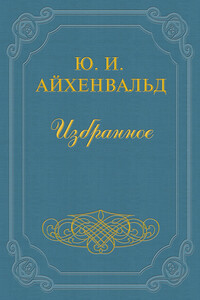
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
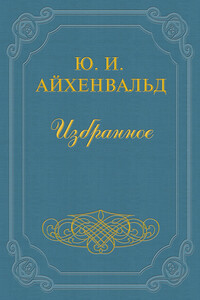
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

Что происходит с современной русской литературой? Почему вокруг неё ведётся столько споров? И почему «лучшие российские писатели» оказываются порой малограмотными? Кому и за что вручают литературные премии? Почему современная литература всё чаще напоминает шоу-бизнес и почему невозможна государственная поддержка писателей, как это было в СССР? Книга отвечает на множество злободневных вопросов и приоткрывает завесу над современным литературным процессом.Во второй главе представлены авторские заметки о великих русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
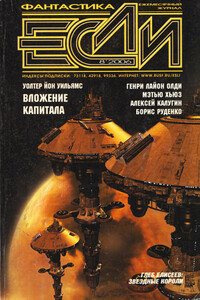
Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
