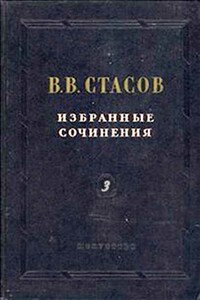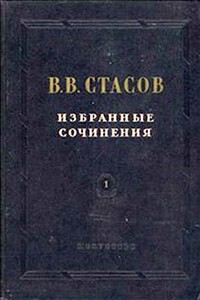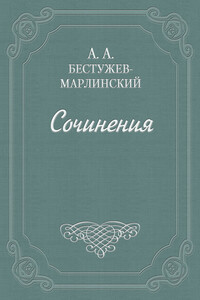Фет - [4]
Вас не поражает неожиданность перехода. Ведь здесь не может быть отчетливой связи, логики (ее вообще нельзя требовать от Фета, как и от узорных сплетений, в которые сходятся тучки, облака, строя в небесной высоте «белый мой город, город знакомый, родной»). Здесь не переход, а порыв, и объяснение он может найти себе только психологическое: в эти мгновенья влюбленности ничто не чуждо душе, ничто не далеко, все связано, все понятно.
Тогда поэт не может молчать, не станет, не умеет. Но этот мотив признания, высказанного чувства, совершенно заглушается у Фета все тою же, более существенной для него, более святою молитвой молчания. Сердце так полно, что в минуту свидания ни о чем нельзя говорить. Я тебе ничего не скажу. Было бы кощунственно прерывать это безмолвие, и не нужно речей, ни огней, ни очей. Он для песни своего влюбленного сердца слов не находит, он «путается» в них, и опять лишь какие-то тени слов, гармонирующие с оттенками чувств, какие-то «полувздохи» и «призраки вздоха», какие-то неуловимые намеки могут дать смутное понятие о той внутренней музыке, которая беззвучно дрожит в его душе. Что ж удивительного, что «счастья взрыв мы промолчали оба», что «странно мы оба молчали и странней сторонилися прочь»? Только потом, когда она, возлюбленная, уйдет, когда я останусь один, тогда вернется ко мне дар слова (дар ли это?) – и я буду
Соловей поет над розой, но «молодая владычица сада» молчит – она только дышит, только благоухает, и, безмолвная, она красноречивее поющего соловья. Это потому, что
Оттого Фет и был такой поэт, который не очень дорожил поэзией. Она была для него соловьем, а не розой – истинную ценность он приписывал одной лишь последней. Хотя не только из природы, но и из поэтов черпал он поэзию, хотя он и понимал, что, когда самое счастье давно утонуло, тогда лишь песни плывут да венки, что жизнь перестает жить, а поэзия бессмертна («этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопеньи»), – но, умиленный, коленопреклоненный, стоял он исключительно перед красотою в ней самой. И это он предложил такой глубокий вопрос:
И венец, свежий и душистый роскошный венок, отдавал он самой богине. Зеркало же, слово, в которое красота глядится, он готов был бы разбить без жалости, как простое удвоение, как ненужное и невнятное повторение. Поэзия не нужна. Зачем пересказывать мир или женщину, живую поэзию? Да это и невозможно: «И что один твой выражает взгляд, того поэт пересказать не может». Опять и опять – он отказывается от слова: он хочет быть немым.
Этот немой зато не глух. У него поразительно «напряженное ухо»: он слышит и трепетные бледные руки, и душу, и то, как сердце цветет, – и он говорит о себе:
Он и должен расти для того, чтобы можно было обнять всю природу. Ее гул разрешает Фет, чародей и музыкант, на тихие звуки, на вздохи и мелодии. Для него никогда не бывает шума, т. е. не должно бы его быть. Поэтому он и не любит мятежных звуков (не в связи ли с этим ненавидит он политические волнения?); ему противна толпа «бесчинная», все эти «бесчисленные, бесчувственные люди»; на свете слишком много людей, и они так шумят… Вот бежит она, толпа голосистая и жадная, к реке – освежиться и испить.
Это верно: он дорожит соловьиным покоем и не спугнет в природе ни одного соловьиного звука (Фет их прибавил), – так он тих и чуток в своих прикосновениях, наш бережный поэт, так полна его душа «молитвою и сладкой тишиной». Он часто говорит о тишине мира, – должно быть тихо, чтобы можно было расслышать все то неуловимое, что слышит Фет: все эти вздохи и шорохи, шепоты и запахи. Звуки он воспринимает на лоне тишины, сквозь них внимает ей, – это для него очень характерно: «звуки тишины ночной не прерывают».
Великий слушающий, все тайны мира подслушавший, и даже «трав неясный запах», он, конечный, мог осуществить это, хотя природа бесконечна:
Он мог осуществить это и в тесном уголке ощутить все, потому что, как мы уже видели, для него есть центр везде. Удовлетворяясь настоящим, улавливая текучее мгновение в сфере чувства, он и внешнюю природу, красоту земли, постигает здесь, около себя. Ему дороги русский пейзаж с «горным хрусталем» его зимы, половодье на Днепре, родная Воробьевка, – и как раз через нее проходит первый меридиан земного шара. Тургенева зовет он из-за границы и уверяет его в чудесных стихах, что к западу он, европеец, равнодушен:

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
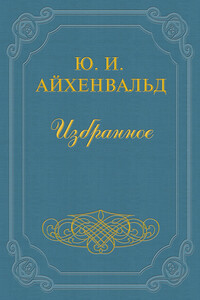
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
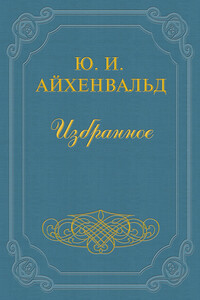
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.
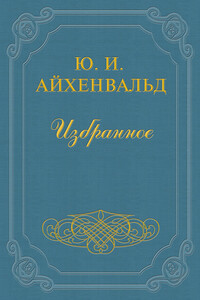
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

- видный русский революционер, большевик с 1910 г., активный участник гражданской войны, государственный деятель, дипломат, публицист и писатель. Внебрачный сын священника Ф. Петрова (официальная фамилия Ильин — фамилия матери). После гражданской войны на дипломатической работе: посол (полпред) СССР в Афганистане, Эстонии, Дании, Болгарии. В 1938 г. порвал со сталинским режимом. Умер в Ницце.

«Охлаждение русских читателей к г. Тургеневу ни для кого не составляет тайны, и меньше всех – для самого г. Тургенева. Охладела не какая-нибудь литературная партия, не какой-нибудь определенный разряд людей – охлаждение всеобщее. Надо правду сказать, что тут действительно замешалось одно недоразумение, пожалуй, даже пустячное, которое нельзя, однако, устранить ни грациозным жестом, ни приятной улыбкой, потому что лежит оно, может быть, больше в самом г. Тургеневе, чем в читателях…».