Федька с бывшей Воздвиженки - [3]
— Ну а потом что? — нетерпеливо спросил Федька. Сашкин костыль с резиновым набалдашником скрипел по песку, насыпанному на дорожке. Федьке подумалось, что ногу Сашка наверняка потерял на фронте.
— Потом танк переехал окоп, — продолжал рассказ Сашка. — Когда он проползал над нами, я подумал: все... А через пять минут мы с остатками отряда уходили в лес, и командир как закричит на меня: «Ты что, сукин сын, вещмешок не взял! Шишки, что ли, в лесу рубать будем?» Как сказал он мне про то, так сразу я почувствовал, что под ложечкой сосет. Двое суток ведь в рот ничего не брали...
А немного позже Федька и Сережка нос к носу столкнулись с Сашкой летом, когда они отдавали секретарше документы в школьной канцелярии. Они вышли на школьный двор. Сашка посмотрел в небо, помолчал и сказал:
— У нас в селе бомба в школу попала. Ни одного в живых не осталось...
— А где у тебя ногу... — спросил Федька и осекся.
Сашка сказал, что ногу он потерял, когда они атаковали немцев на лесной дороге. Осколком гранаты ему начисто снесло ступню, началась гангрена, и Сашку отправили в тыл, где и отрезали ногу выше колена.
Сашка достал из кармана орден Красной Звезды.
— Последняя награда, — задумчиво произнес он, и вдруг глаза его сузились, на скулах заходили желваки. — Я один раз из «максима»» целый взвод фрицев покосил в упор... — Сашка вдруг протянул руку Федьке, после Сережке, стараясь не смотреть ребятам в глаза, и зашагал прочь...
Вот про кого надо писать книги, подумал Федька, засыпая... Недочитанный роман Александра Дюма упал с постели на сапоги. Настольная лампа продолжала светиться под зеленым стеклянным абажуром. И приснился Федьке сон, будто он дежурит на крыше военторга вместе с Идочкой. Кругом бомбы рвутся, зажигалки буравят крыши домов, а они с Идочкой пьют калмыцкий чай с молоком. Только сахара у них нет. Федька точно знает, что Идочку зовут Констанцией, а его самого — д’Артаньяном. Правда, у Констанции косички вразлет и серебристый пушок на щеках. А у д’Артаньяна не ботфорты, а обычные сапоги и цигейковый полушубок. Федька-д’Артаньян поднимает упавшие на крышу осколки и протягивает их Идочке-Констанции. «Пойдем в кино», — предлагает Федька-д’Артаньян и бросает пустые стаканы на мостовую. «Деньги есть?» — спрашивает Идочка-Констанция. «В расшибалку проиграл». Идочка достает из кармана старенького пальто двадцать рублей, и вдвоем они прямо с крыши военторга опускаются в кинотеатр «Художественный», проходят в зал и садятся в последний ряд, хотя билет у них на четырнадцатый. Но в последнем ряду можно с ногами залезть на кресло, и никто не завопит, что ты не стеклянный. «Какая картина?» — шепотом спрашивает Федьку Идочка. «Микки-Маус» и «Три поросенка», — отвечает Федька. Эти фильмы смотрел он до войны и был уверен, что их снова покажут. Федька рассматривает полукружья барельефов над боковыми дверьми. На левом барельефе мужчина хватает кентавра за чуб и готовится отрубить ему голову. На правом барельефе тот же кентавр хватает за чуб мужчину, у которого коленки от страха подкосились, и замахивается мечом. Тушится свет в зале, и Идочка говорит: «Поцелуй меня в щеку...» И Федьке очень приятно, что Идочка тоже любит целоваться в щеку. Он наклоняется к ней и чувствует пушок, который щекочет ему губы... Вдруг Федька услышал какой-то стук и проснулся.
На кушетке, прямо напротив Федьки, сидела мать. Федьке показалось, что он проспал всего минуту.
— Сколько время? — спросил он.
— Семь, — ответила мать, и кушетка, потерявшая ножку, стукнулась углом о плинтус.
— Ирина Михайловна, — в комнату заглянула соседка Катерина Ивановна, — у вас вода закипела.
— Спасибо, — ответила мать. Она только что хотела поправить Федьку по старой педагогической привычке — сын должен был сказать «сколько времени». Но потом передумала. Ведь это был московский говор. Старый московский говор со времен Лермонтова. Ведь и Лермонтов не склонял существительных «имя, пламя, время». И должно быть, Варенька Лопухина, которую любил Лермонтов, спрашивала Михаила Юрьевича: «Мишель, сколько время?». Если бы не война, она бы успела написать кандидатскую диссертацию о «Герое нашего времени»...
Ирина Михайловна встала на подоконник и сняла с окон одеяла. В комнату начал медленно вливаться серый сумрак осеннего утра.
Ирина Михайловна вышла в коридор, вытащила из стенного шкафа Федькины ковбойки и открыла дверь в фонарь. Фонарем назывался чулан, похожий на глубокий колодец. Верх его выходил на крышу и был покрыт стеклянным переплетом.
Под ногою что-то хрустнуло. Ирина Михайловна нагнулась и увидела осколки стекла. Опять фонарь зальет водою, если начнется дождик, устало подумала она, и бросила Федькины рубашки в лежавшее у стены корыто. Ей хотелось выстирать белье до ухода на работу, потому что Катерина Ивановна одолжила корыто только до завтра. Ирина Михайловна вынесла его на кухню и поставила на скамейку. В кухню вошла Катерина Ивановна.
— Стираете? — спросила она между прочим и подошла к монотонно гудящему примусу. Из цилиндрического чрева кастрюли, стоявшей на примусе, вырывались чавкающие звуки. Катерина Ивановна отвела в сторону мизинец с длинным ноготком и приподняла крышку. Аромат мяса ударил в стены и медленно поплыл по коридору.

Новый мир. — 1996. — №8. — С.149-159. Альфред Михайлович Солянов родился в 1930 году. Закончил философский факультет МГУ. Живет в Москве. Автор повести «Федька с бывшей Воздвиженки», опубликованной в 1974 году издательством «Молодая гвардия», и поэтического сборника «Серега-неудачник» (1995). Публиковал переводы стихов и прозы с немецкого и английского языков, в частности У. Теккерея, Р. М. Рильке, Г. Мейринка. Известен как бард — исполнитель авторской песни. Первая публикация в «Новом мире» — очерк «Как мы с дядей писали повесть о Варшавском восстании» (1995, № 6).

Крепостной парень, обученный грамоте, был отправлен в Санкт-Петербург, приписан как служитель к дворцовому зверинцу и оставил след в истории царствования императриц от Анны Иоанновны до Елизаветы Петровны.

Леонид Рахманов — прозаик, драматург и киносценарист. Широкую известность и признание получила его пьеса «Беспокойная старость», а также киносценарий «Депутат Балтики». Здесь собраны вещи, написанные как в начале творческого пути, так и в зрелые годы. Книга раскрывает широту и разнообразие творческих интересов писателя.
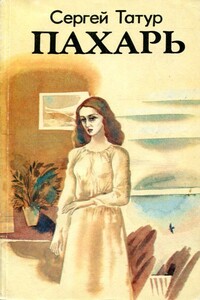
Герои повести Сергея Татура — наши современники. В центре внимания автора — неординарные жизненные ситуации, формирующие понятия чести, совести, долга, ответственности. Действие романа разворачивается на голодностепской целине, в исследовательской лаборатории Ташкента. Никакой нетерпимости к тем, кто живет вполнакала, работает вполсилы, только бескомпромиссная борьба с ними на всех фронтах — таково кредо автора и его героев.

В новом своем произведении — романе «Млечный Путь» известный башкирский прозаик воссоздает сложную атмосферу послевоенного времени, говорит о драматических судьбах бывших солдат-фронтовиков, не сразу нашедших себя в мирной жизни. Уже в наши дни, в зрелом возрасте главный герой — боевой офицер Мансур Кутушев — мысленно перебирает страницы своей биографии, неотделимой от суровой правды и заблуждений, выпавших на его время. Несмотря на ошибки молодости, горечь поражений и утрат, он не изменил идеалам юности, сохранил веру в высокое назначение человека.

Сборник произведений грузинского советского писателя Чиладзе Тамаза Ивановича (р. 1931). В произведениях Т. Чиладзе отражены актуальные проблемы современности; его основной герой — молодой человек 50–60-х гг., ищущий своё место в жизни.

Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.

В однотомник Сергея Венедиктовича Сартакова входят роман «Ледяной клад» и повесть «Журавли летят на юг».Борьба за спасение леса, замороженного в реке, — фон, на котором раскрываются судьбы и характеры человеческие, светлые и трагические, устремленные к возвышенным целям и блуждающие в тупиках. ЛЕДЯНОЙ КЛАД — это и душа человеческая, подчас скованная внутренним холодом. И надо бережно оттаять ее.Глубокая осень. ЖУРАВЛИ УЛЕТАЮТ НА ЮГ. На могучей сибирской реке Енисее бушуют свирепые штормы. До ледостава остаются считанные дни.
