«Это просто буквы на бумаге…» Владимир Сорокин: после литературы - [266]
В. С.: Теперь давайте с другого боку. Как бы там ни было, но все московские концептуалисты в 1970–1980-е в один голос повторяли, что мы такие вот агенты западной культуры в СССР. Да?
Н. Ш.: В некотором смысле так и было.
В. С.: Эстетически, и будем говорить, что и этически тоже, потому что все ненавидели советскую власть и советский образ жизни. Но парадоксальным образом после того, как рухнул Советский Союз, и выставляться можно было где угодно, и ездить куда угодно, московские концептуалисты не вписались в западный контекст современного искусства. То есть я сейчас говорю даже не о карьерах, хотя это, кстати, главный показатель вписываемости. Что до настоящей мощной карьеры – ее сделал ведь один Кабаков, да?
Н. Ш.: Комар с Меламидом.
В. С.: Ну, они уже были западными художниками, они все-таки уехали и сделали себе карьеру на Западе не как русские эмигранты, а как западные художники. Кабаков же приехал на Запад пятидесятилетним человеком именно как известный русский художник и делал себе карьеру только на советском материале, он как бы представлял на Западе советскую эстетику и ментальность, был интерпретатором умершей советской цивилизации. И мне крайне любопытно, что круг, который считал себя частью Запада…
Н. Ш.: …оказался Западом-то и отвергнут.
В. С.: Да. Он оказался-то региональным явлением. Проще говоря, «московский концептуализм» не стал просто концептуализмом.
Н. Ш.: Это верно. Московский концептуализм разбился о рынок, я просто в этом абсолютно убежден. И совершенно неудивительно. Потому что это было как бы искусство, своего рода чистое искусство. Оно не могло преследовать корыстных целей – его, как мы говорили, не интересовал результат. Результат в плане выставок, результат в плане карьер и т. д. Ведь это само по себе было заведомо невыставляемо и предназначалось «для себя», внутрь себя, да? Но так ведь это, между прочим, опять же практика, очень-очень характерная для русского авангарда. Вспомните и Малевича, и собственно послереволюционную ситуацию – они не работали для рынка, это все были вещи, которые не подлежали купле-продаже. Малевич мир хотел переделывать, но никак не продавать свои работы по твердой валюте.
В. С.: Но сейчас видно невооруженным глазом, что русский авангард-то вписался в историю мирового искусства. И не просто вписался, а мощно повлиял. Малевич повлиял на всех и все, весь интерьерный дизайн современный, весь хай-тек – последствие влияния Малевича. Потому что «Черный квадрат» Малевича и его идея супрематизма понятна любому мыслящему человеку, она интернациональна в принципе. А московский концептуалист оказался понятен только группе единомышленников. Вот, например, возьмите Константина Звездочетова.
Н. Ш.: Да, очень хороший художник, я считаю.
В. С.: Ну, о’кей. Считайте так, никто не запретит. Но для того чтоб понимать его картины с персонажами, перерисованными из журнала «Крокодил» 1958 года, западному человеку нужно почитать этот журнальчик, пожить в Москве, узнать советско-русский контекст, попить водочки с мужичками. Точно так же, чтобы понять, что такое «КД», нужно заручиться доверием Монастырского, прочитать книгу «Поездки за город», изучать безумный, придуманный Монастырским словарь «терминов московского концептуализма».
Н. Ш.: Я согласен. Но Звездочетов, видимо, сознательно это делает, я в этом убежден.
В. С.: Ну еще бы! Он же просто не знает и не хочет знать другого материала и другой реальности, он как бы говорит: «Я убогонький советский человечек, я другой реальности не знаю, рисую только родное, советское». Это как бушмен Наматжира в Австралии, рисующий родных кенгуру в родном пейзаже. Но это же чистая этнография!
Н. Ш.: Он работает с некой советской мифологией, видимо, справедливо полагая, что советское – это единственно уникальное, что есть у нас. Пусть зритель вникает в этот контекст! (Смеется.)
В. С.: Коля, это не релевантное требование. Искусство должно быть понятно всем. В этом сила его. Современное искусство – не катакомбная церковь, не заговор посвященных, не этнография. Я видел большой том «Московский концептуализм», с золотым обрезом. И надо сказать, что, полистав его, я впал в довольно-таки безрадостное состояние. Производит он в общем-то удручающее впечатление. Единственный термин, который напрашивается, оценочный – «убожество». Во всем – дикая привязанность к месту, зависимость от советского контекста.
Н. Ш.: Да, но она культивировалась сознательно.
В. С.: Как и нежелание свободно говорить на языке визуального, да? Тоже культивировалось? Нет, этого просто не получилось. Советский текст и контекст раздавили картинку… У меня такое впечатление, что тот самый колокол воздуха, которым так притягивал людей в 1970–1980-е годы круг московских концептуалистов, он был хорош лишь своим воздухом: разговором, тусовкой, радостью свободного общения, нарушения запретов (не только идеологических) и обменом идей. Как Бродский писал: «Опыт борьбы с удушьем…» А те вещи, которые как бы остались после этого, они просто жалки и вызывают ностальгию, чего искусство в принципе не должно делать. Ностальгия – это категория для бытовых, памятных вещей. А эти произведения вызывают прежде всего чувство жалости к людям, которые были вынуждены таким способом выживать в тоталитарном государстве. То есть над работами московских концептуалистов 1970–1980-х можно поплакать, чокнуться с ними водочкой, и все! Тащить их в музеи – просто смешно.
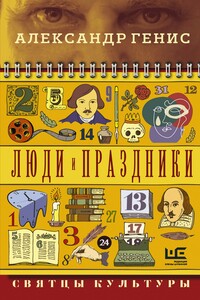
Александр Генис ("Довлатов и окрестности", "Обратный адрес", "Камасутра книжника") обратился к новому жанру – календарь, или "святцы культуры". Дни рождения любимых писателей, художников, режиссеров, а также радио, интернета и айфона он считает личными праздниками и вставляет в список как общепринятых, так и причудливых торжеств. Генис не соревнуется с "Википедией" и тщательно избегает тривиального, предлагая читателю беглую, но оригинальную мысль, неожиданную метафору, незамусоленную шутку, вскрывающее суть определение.

В новую книгу известного писателя, мастера нон-фикшн Александра Гениса вошли филологический роман «Довлатов и окрестности» и вдвое расширенный сборник литературных портретов «Частный случай». «Довлатов и окрестности» – не только увлекательное повествование о его главном герое Сергее Довлатове (друге и коллеге автора), но и оригинальный манифест новой словесности, примером которой стала эта книга. «Частный случай» собрал камерные образцы филологической прозы, названной Генисом «фотографией души, расположенной между телом и текстом».

«Русская кухня в изгнании» — сборник очерков и эссе на гастрономические темы, написанный Петром Вайлем и Александром Генисом в Нью-Йорке в середине 1980-х., — это ни в коем случае не поваренная книга, хотя практически каждая из ее глав увенчана простым, но изящным и колоритным кулинарным рецептом. Перед нами — настоящий, проверенный временем и собравший огромную армию почитателей литературный памятник истории и культуры. Монумент целой цивилизации, сначала сложившейся на далеких берегах благодаря усилиям «третьей волны» русской эмиграции, а потом удивительно органично влившейся в мир и строй, что народился в новой России.Вайль и Генис снова и снова поражают читателя точностью наблюдений и блестящей эрудицией.

Новая книга Александра Гениса не похожа на предыдущие. Литературы в ней меньше, жизни больше, а юмора столько же. «Обратный адрес» – это одиссея по архипелагу памяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них – Петр Вайль и Сергей Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышников, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и Чхартишвили, Комар и Меламид, «Новый американец» и радио «Свобода».

Когда вещь становится привычной, как конфетный фантик, мы перестаем ее замечать, не видим необходимости над ней задумываться, даже если она – произведение искусства. «Утро в сосновом бору», «Грачи прилетели», «Явление Христа народу» – эти и другие полотна давно превратились в незыблемые вехи русской культуры, так что скользящий по ним глаз мало что отмечает, помимо их незыблемости. Как известно, Александр Генис пишет только о том, что любит. И под его взглядом, полным любви и внимания, эти знаменитые-безвестные картины вновь оживают, превращаясь в истории – далекие от хрестоматийных штампов, неожиданные, забавные и пронзительные.Александр Генис – журналист, писатель и культуролог.

“Птичий рынок” – новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции бестселлеров “Москва: место встречи” и “В Питере жить”: тридцать семь авторов под одной обложкой. Герои книги – животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша… Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова.

Однажды Пушкин в приступе вдохновения рассказал в петербургском салоне историю одного беса, который влюбился в чистую девушку и погубил ее душу наперекор собственной любви. Один молодой честолюбец в тот час подслушал поэта…Вскоре рассказ поэта был опубликован в исковерканном виде в альманахе «Северные цветы на 1829 год» под названием «Уединенный домик на Васильевском».Сто с лишним лет спустя наш современник писатель Анатолий Королев решил переписать опус графомана и хотя бы отчасти реконструировать замысел Пушкина.В книге две части – повесть-реконструкция «Влюбленный бес» и эссе-заключение «Украденный шедевр» – история первого русского плагиата.
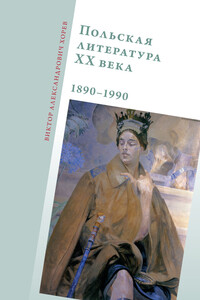
«…В XX веке Польша (как и вся Европа) испытала такие масштабные потрясения, как массовое уничтожение людей в результате кровопролитных мировых и локальных войн, а также господство тоталитарных систем и фиаско исторического эксперимента – построения социализма в Советском Союзе и странах так называемого социалистического лагеря. Итогом этих потрясений стал кризис веры в человеческий разум и мораль, в прогрессивную эволюцию человечества… Именно с отношением к этим потрясениям и, стало быть, с осмыслением главной проблемы человеческого сознания в любую эпоху – места человека в истории, личности в обществе – и связаны, в первую очередь, судьбы европейской культуры и литературы в XX в., в том числе польской».
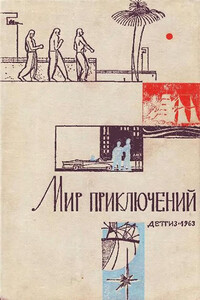
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
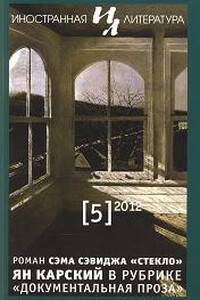
Статья Дмитрия Померанцева «Что в имени тебе моем?» — своего рода некролог Жозе Сарамаго и одновременно рецензия на два его романа («Каин» и «Книга имен»).

В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.
