«Это просто буквы на бумаге…» Владимир Сорокин: после литературы - [264]
Н. Ш.: Работы Кабакова и Комара – Меламида я знал еще в школе по журналу «А – Я», он выходил, когда я учился еще классе в седьмом-восьмом.
В. С.: У вас была продвинутая школа.
Н. Ш.: Да! Другое дело, что где-то году в 1987–1988-м у меня появилось довольно много знакомых, которые как-то пересекались с художественной средой, и постепенно становилось ясно, что все самое интеллектуально свежее и интересное происходит именно там. Не обязательно искусство, об искусстве я думал тогда в последнюю очередь. Это был комплекс идей, наверное. В этой среде шел постоянный обмен информацией, там были совсем другие люди, нежели те, которых я встречал в МГУ, встречал у себя в школе. И в дальнейшем я просто выстраивал все в соответствии с этими приоритетами. Это была очень интригующая и очень гипнотически сильная среда.
В. С.: С этим я полностью согласен. В 1975 году, мне было тогда 20 лет, я попал в мастерскую Эрика Булатова. И надо сказать, что именно работы Булатова произвели на меня очень сильное впечатление. И началось общение с этим кругом. Но я попал туда как художник, и парадоксальным образом общение с этими художниками возбудило меня на писание литературных текстов.
Вы совершенно верно сказали, что это был круг совершенно особенный! Он отличался от других и интеллектуально, и эстетически. Ведь Москва была уникальна тем, что здесь подполье было крайне разнообразно и был, например, Зверев, так сказать, и Кабаков. Их объединял андеграунд, но существовали они в разных питательных средах. И у меня возникает такой вопрос: не кажется ли вам, что московский концептуализм – это был такой пузырь кислорода в океане брежневского бытия? Это как бы такой кислородный колокол, как под водой бывает, который позволял нам дышать. Собственно, в этом колоколе люди питались отношениями, они жили идеями, жили общением, а то, что висело на стенах, – это было лишь поводом для общения, во время которого и выделялся тот самый кислород.
Н. Ш.: И здесь сама коммуникация была осмыслена и абсолютизирована. Она воспринималась как некий творческий процесс, зачастую без результата, кстати говоря. Некий бесконечный процесс…
В. С.: Очень хорошо, что вы сказали «без результата». Результат как бы был вторичен.
Н. Ш.: При этом мне кажется, что и «КД», то есть «Коллективные действия», и Булатов с Васильевым в своей практике станковой картины шли, в общем, единым метафизическим путем. Это была такая настоящая метафизика в искусстве. И здесь очень интересная вещь происходит: московский концептуализм нам демонстрирует, что в своем методе он берет нечто от православия, в частности в его пренебрежении результатом, а также в практике некоего медитативного отношения к действительности.
В. С.: Ну и конечно же, соборность. Да?
Н. Ш.: Соборность.
В. С.: Коллективизм, да? Коллективное спасение от совка в колоколе кислородном ныне и присно и во веки веков!
Н. Ш.: Коллективизм. И сочетается это с каким-то протестантским тотальным анализом, что совершенно не свойственно православию. Анализом и самоанализом, да? Это чуть ли не единственный вообще прецедент в русской мысли – такая разработанная аналитичность, возведенная в систему… Наверное, еще только тартуская школа отличалась такой тотальной аналитичностью, формалисты русские. Но здесь это все выстраивается в одну линию: для меня концептуалисты были преемники русского авангарда.
В. С.: Тогда я тоже так думал.
Н. Ш.: Это по-другому не воспринималось.
В. С.: То есть Малевич – Кабаков.
Н. Ш.: Да, от русского авангарда через русский формализм и так далее, до Кабакова. Но одновременно это было некое направление, особенно «КД», где все строилось на практике постоянной работы с категориями сакрального. То есть это было некое стяжание Святого Духа (смеется).
В. С.: Ну да, собственно, это во многом следствие, так сказать, личной истории «стяжания» Духа Святого Монастырским зимой 1982 года. Когда он, вдруг неожиданно для себя и окружающих сильно въехав в православие, решил, что при помощи поста и молитвы он сразу, как на лифте, попадет в святые, в результате чего он попал, естественно, в психиатрическую лечебницу. То есть он, как бы сказали монахи, самочинно решил стяжать Дух Святой.
Поэтому более-менее понятно, что «Коллективные действия» были как бы индуцированы нелегкой психосоматикой одного человека – Монастырского. И поэтому, собственно, и можно говорить о том, что все-таки «Коллективные действия» достаточно герметичное образование, они не стали общедоступной коммуникативной системой, как работы западных концептуалистов. Да?
Н. Ш.: Да, в этом смысле тут ничего общего!
В. С.: То есть западные концептуалисты как раз стремились к наибольшей прозрачности понятийной, да? Чтобы не было никаких теней, никаких недомолвок, а была лишь чистая идея. И чтоб чистота идеи или жеста была абсолютно понятна всем. И они обращались ко всем. «Стул» Кошута обращен ко всем. Мне кажется, концептуализм – это все-таки порождение западного открытого послевоенного демократического общества и свободного мышления, в этом его сила. Но «Коллективные действия» – это история нарастающего герметизма, отделенности. Катакомбная церковь, что ли? Первые акции их были еще достаточно концептуально прозрачны и чисты, «Лозунг», вытягивание веревки из леса, «Появление». Но потом акции стали невероятно усложняться, обрели некую громоздкость и герметичность. И недаром эту группу, еще в 1980-е, потеряв интерес к процессу, стали покидать такие чувствительные люди, как Алексеев, Кизевальтер. Каждая акция становилась все более малопонятной для непосвященных. И приглашались на акции жестко отобранные люди, посвященные. Я помню, Монастырский на мой вопрос, почему он больше не зовет Булатова на акции, ответил: «Как-то подозрительно…» То есть – человек уже потерял статус посвященного. Но это же принцип секты. Да?
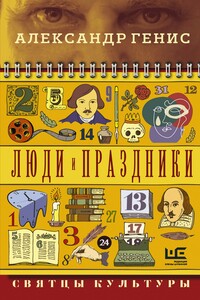
Александр Генис ("Довлатов и окрестности", "Обратный адрес", "Камасутра книжника") обратился к новому жанру – календарь, или "святцы культуры". Дни рождения любимых писателей, художников, режиссеров, а также радио, интернета и айфона он считает личными праздниками и вставляет в список как общепринятых, так и причудливых торжеств. Генис не соревнуется с "Википедией" и тщательно избегает тривиального, предлагая читателю беглую, но оригинальную мысль, неожиданную метафору, незамусоленную шутку, вскрывающее суть определение.

«Русская кухня в изгнании» — сборник очерков и эссе на гастрономические темы, написанный Петром Вайлем и Александром Генисом в Нью-Йорке в середине 1980-х., — это ни в коем случае не поваренная книга, хотя практически каждая из ее глав увенчана простым, но изящным и колоритным кулинарным рецептом. Перед нами — настоящий, проверенный временем и собравший огромную армию почитателей литературный памятник истории и культуры. Монумент целой цивилизации, сначала сложившейся на далеких берегах благодаря усилиям «третьей волны» русской эмиграции, а потом удивительно органично влившейся в мир и строй, что народился в новой России.Вайль и Генис снова и снова поражают читателя точностью наблюдений и блестящей эрудицией.

В новую книгу известного писателя, мастера нон-фикшн Александра Гениса вошли филологический роман «Довлатов и окрестности» и вдвое расширенный сборник литературных портретов «Частный случай». «Довлатов и окрестности» – не только увлекательное повествование о его главном герое Сергее Довлатове (друге и коллеге автора), но и оригинальный манифест новой словесности, примером которой стала эта книга. «Частный случай» собрал камерные образцы филологической прозы, названной Генисом «фотографией души, расположенной между телом и текстом».

Новая книга Александра Гениса не похожа на предыдущие. Литературы в ней меньше, жизни больше, а юмора столько же. «Обратный адрес» – это одиссея по архипелагу памяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них – Петр Вайль и Сергей Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышников, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и Чхартишвили, Комар и Меламид, «Новый американец» и радио «Свобода».

Когда вещь становится привычной, как конфетный фантик, мы перестаем ее замечать, не видим необходимости над ней задумываться, даже если она – произведение искусства. «Утро в сосновом бору», «Грачи прилетели», «Явление Христа народу» – эти и другие полотна давно превратились в незыблемые вехи русской культуры, так что скользящий по ним глаз мало что отмечает, помимо их незыблемости. Как известно, Александр Генис пишет только о том, что любит. И под его взглядом, полным любви и внимания, эти знаменитые-безвестные картины вновь оживают, превращаясь в истории – далекие от хрестоматийных штампов, неожиданные, забавные и пронзительные.Александр Генис – журналист, писатель и культуролог.

“Птичий рынок” – новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции бестселлеров “Москва: место встречи” и “В Питере жить”: тридцать семь авторов под одной обложкой. Герои книги – животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша… Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.
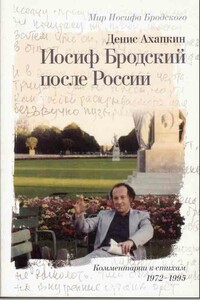
Мир Иосифа Бродского — мир обширный, таинственный и нелегко постижимый. Книга Дениса Ахапкина, одного из ведущих исследователей творчества Нобелевского лауреата, призвана помочь заинтересованному читателю проникнуть в глубины поэзии Бродского периода эмиграции, расшифровать реминисценции и намеки.Книга "Иосиф Бродский после России" может стать путеводителем по многим стихотворениям поэта, которые трудно, а иногда невозможно понять без специального комментария.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.