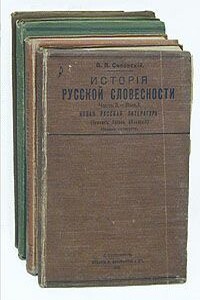«Это просто буквы на бумаге…» Владимир Сорокин: после литературы - [268]
Н. Ш.: Ну да, но, понимаете, ведь это не так плохо. Мы сейчас говорим о том, что как проект московский концептуализм, в отличие от супрематизма, не смог состояться на Западе. Но ведь вопрос в том, что…
В. С.: …поэтому он и называется «московский». Да-да-да… «Московский». Знаете, Коля, есть такой дешевый коньяк «Московский». Но в Москве вообще-то не растет виноград!
Н. Ш.: Но я должен сказать, что вопрос здесь в целеполагании. Супрематизм не ставил задачу завоевать рынок.
В. С.: Малевич, собственно, хотел переделать мир. И стал столпом изобразительного искусства XX века и очень дорогим художником.
Н. Ш.: Да, да. В 1988 году произошел московский «Сотбис», я это прекрасно помню – что это все сто́ит каких-то непонятных денег, как бы подразумевалось, но что сто́ит так много, не ожидал никто. Я думаю, тогда все это русское современное искусство моментально осветилось каким-то внутренним светом безусловного коммерческого успеха. И здесь еще ко всему прочему – замаячила дорога в светлое будущее. Раз и навсегда. И вот это все и сгубило, мне кажется. Потому что задачи у наших художников не стояли переделать мир, отнюдь…
В. С.: Нет, не стояли. Амбиции концептуалистов были по сравнению с Малевичем гораздо скромнее. Они просто как неофиты были довольны тем, что могли в своих мастерских в своих работах говорить на западном языке искусства. И этого было достаточно.
Н. Ш.: И это была уже не задача в духе Саврасова, да? Вот этот «свет фаворский», который обнаруживается в каждой лужице, – это же глубоко интимная задача. И этой задачи не стояло. А стояла задача вполне себе соотносимая с духом наступающих 1990-х. Конечно же, коммерческие художники были всегда, допустим Айвазовский. Очень коммерческий художник, который прекрасно осознавал это. Но здесь люди вдруг оказались поставлены перед фактом, что их искусство выражается в таком-то количестве дензнаков. И они были к этому совершенно не готовы. Вспомните, сколько срочно появилось художников!
В. С.: Да. Возник «Детский сад», мастерские на Фурманном. Художниками в одночасье стали люди, которые никогда ими практически не были. Очень хорошо помню: я во многом по инерции тогда сделал несколько объектов. Три, по-моему, объекта, они носили такой квазилитературный, прикладной характер. Я занимался по-прежнему своим делом, и вот типичный разговор конца 1980-х. 1989 год. Звонит Монастырский: «Вова, Рита делает выставку, надо тебе быстро сделать работу». Я говорю: «Знаешь, у меня как-то сейчас и драйва нет, да и как-то, так сказать, ради чего делать?» – «Ну как ради чего?» А он любил очень, ну, как бы обложиться «своими» на выставке. Он говорит: «Ну как ради чего? Чтоб продать». А там буквально за неделю надо было что-то слепить. А я говорю: «Ну, как я так быстро?» А он: «Элементарно: иди на помойку, возьми какую-нибудь деревяшку, железку, прикрути к деревяшке железку, а на деревяшке чего-нибудь напиши». Я говорю для смеха: «Например: „обо-робо“…» А он говорит: «Во! Здорово! Напиши „обо-робо“, выставишь, у тебя ее купят за 15 тысяч долларов». Я, естественно, «обо-робо» делать не стал. Но это очень характерно для периода этой эйфории. Рынок!
На самом деле, когда человек поднимается с глубины резко, у него начинает закипать кислород в крови. Помню, как мне один наш молодой концептуалист-живописец с гордостью говорил о каком-то провинциальном немецком городе на юге, где он пробыл пару месяцев русским художником на какой-то стипендии. Он говорил: «Я залепил там 30 картин, все продал, купил машину, мы с женой купили ящик вина, кучу барахла и ящик макарон».
Н. Ш.: И поехали в Россию!
В. С.: Да! Цель вхождения в западный рынок была достигнута! Но тем не менее я все-таки считаю, что московский концептуализм научил очень многих людей свободно мыслить.
Н. Ш.: Да. Совершенно верно. Расширил сознание.
В. С.: И за это ему можно поставить какой-нибудь концептуальный памятник в Москве.
Н. Ш.: Надо понимать, надгробный памятник-то?
В. С.: Ну, чтобы он сочетал в себе и элементы надгробия, потому что в общем все закончилось, но, конечно, и одновременно чтоб это был некий монумент славы.
Теперь же мне хочется вам, как человеку чувствительному к искусству и проницательному, задать вопрос такой. Ну, о’кей, вот Малевич, например. Если посетить какой-нибудь салон эксклюзивной сантехники, мы можем по квадратной форме унитаза понять, как супрематизм повлиял на мир дизайна и, например, на благоустройство жилища человека. И те же самые блочные дома – это во многом влияние того же Малевича и конструктивизма. И в связи с этим любопытно хотя бы пофантазировать: на что максимальным образом может в будущем повлиять московский концептуализм?
Н. Ш.: Я думаю, здесь понятно: на литературу? На литературу.
В. С.: Безусловно, и Пригов, и Рубинштейн, и Некрасов, и я, и тот же Паша Пепперштейн – собственно, все мы испытали это влияние и от этого никуда не денешься.
Н. Ш.: Но в дальнейшем это обязательно коснется других видов искусства. Повлиял он и на те виды искусства, которые связаны с литературой, в частности на оперу. Опера вообще жанр, у которого, как мне кажется, будущее, потому что он обладает эксклюзивностью: вы должны прийти и посмотреть это, особенно современную оперу. Слушать современную оперу в записи довольно дико, там главное постановка, визуально-концептуальная интерпретация. Таким образом, она несет в себе нечто от перформанса. Я думаю, что и в кино он еще аукнется. Не столько какими-то визуальными кодами – как мы сказали, он их почти не выработал, а скорей понятийными.
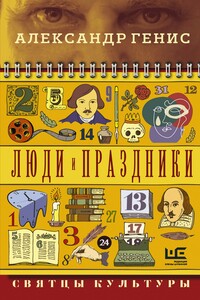
Александр Генис ("Довлатов и окрестности", "Обратный адрес", "Камасутра книжника") обратился к новому жанру – календарь, или "святцы культуры". Дни рождения любимых писателей, художников, режиссеров, а также радио, интернета и айфона он считает личными праздниками и вставляет в список как общепринятых, так и причудливых торжеств. Генис не соревнуется с "Википедией" и тщательно избегает тривиального, предлагая читателю беглую, но оригинальную мысль, неожиданную метафору, незамусоленную шутку, вскрывающее суть определение.

В новую книгу известного писателя, мастера нон-фикшн Александра Гениса вошли филологический роман «Довлатов и окрестности» и вдвое расширенный сборник литературных портретов «Частный случай». «Довлатов и окрестности» – не только увлекательное повествование о его главном герое Сергее Довлатове (друге и коллеге автора), но и оригинальный манифест новой словесности, примером которой стала эта книга. «Частный случай» собрал камерные образцы филологической прозы, названной Генисом «фотографией души, расположенной между телом и текстом».

«Русская кухня в изгнании» — сборник очерков и эссе на гастрономические темы, написанный Петром Вайлем и Александром Генисом в Нью-Йорке в середине 1980-х., — это ни в коем случае не поваренная книга, хотя практически каждая из ее глав увенчана простым, но изящным и колоритным кулинарным рецептом. Перед нами — настоящий, проверенный временем и собравший огромную армию почитателей литературный памятник истории и культуры. Монумент целой цивилизации, сначала сложившейся на далеких берегах благодаря усилиям «третьей волны» русской эмиграции, а потом удивительно органично влившейся в мир и строй, что народился в новой России.Вайль и Генис снова и снова поражают читателя точностью наблюдений и блестящей эрудицией.

Новая книга Александра Гениса не похожа на предыдущие. Литературы в ней меньше, жизни больше, а юмора столько же. «Обратный адрес» – это одиссея по архипелагу памяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них – Петр Вайль и Сергей Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышников, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и Чхартишвили, Комар и Меламид, «Новый американец» и радио «Свобода».

Когда вещь становится привычной, как конфетный фантик, мы перестаем ее замечать, не видим необходимости над ней задумываться, даже если она – произведение искусства. «Утро в сосновом бору», «Грачи прилетели», «Явление Христа народу» – эти и другие полотна давно превратились в незыблемые вехи русской культуры, так что скользящий по ним глаз мало что отмечает, помимо их незыблемости. Как известно, Александр Генис пишет только о том, что любит. И под его взглядом, полным любви и внимания, эти знаменитые-безвестные картины вновь оживают, превращаясь в истории – далекие от хрестоматийных штампов, неожиданные, забавные и пронзительные.Александр Генис – журналист, писатель и культуролог.

“Птичий рынок” – новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции бестселлеров “Москва: место встречи” и “В Питере жить”: тридцать семь авторов под одной обложкой. Герои книги – животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша… Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.