Дневник - [5]
– Ну я уже готов! – вскочил Тихий, расчесывая пятерней лохматую голову. – Пока вы оденетесь, я чай вскипячу. Хозяин, где у тебя вода?
Вдруг в окно застучали.
– Ну что, долго вас дожидаться? – раздался за окном сердитый тенор отделенного командира.
– Напились! – злобно бормочет Тихий, с грохотом ставя ведро под лавку и цепляя через плечо вещевую сумку.
Еще звезды догорали на темном небосклоне. Восток уже светлел. После осенних дождей почва совершенно раскисла, и, выйдя из дверей, мы в темноте зашлепали по жидкой грязи. Сначала в темноте ничего нельзя было разобрать, но потом мы рассмотрели, что узкая улица вся запружена повозками с разным скарбом, некоторые выезжали из ворот соседних дворов, внося в узкую улицу еще больший беспорядок. Все это полковой обоз на обывательских лошадях. Слышались крики, брань, переругивания. Между повозками сновали люди с вещевыми мешками и винтовками.
– Куда прешься! – слышались голоса. – Какой роты?
– Нестроевой![13]
– Нестроевой…………. осади! Что здесь вам…………. что ли?!
– Да вы осторожней, с кем разговариваете?!
– Я поручик Смирнов, начальник обоза первого разряда[14], приказываю вам!..
– Замолчите, поручик… Я вас арестовываю, я полковник Носицкий, командир нестроевой роты…
В другом месте шел спор из-за женщин.
– Куда лезете с бабами! – кричал какой-то офицер. – Приказа не читали!..
– На черта мне ваши приказы, когда я вам приказываю пустить повозку!..
– А я не пущу!..
Путаясь между повозками, едва вытаскивая ноги из грязи, мы наконец нашли свою роту, она была в сборе.
– Кто пришел? – грозно спросил фельдфебель, держа список в руках. – Шатаются там! – добавил он, отмечая нас в списке. Мы пристроились на левом фланге, я спереди, мой Тихий, левее меня Половинка и Шпак – оба почтовые служащие из ст. Желанной[15].
– Ну и здорово же тот осадил бабу, – бормотал Тихий, оглядываясь назад.
– Кого? – спросил Половинка.
– Да знаешь того рыжего поручика, что с женой, – иду я вчера по улице, а он – эй, нижний чин[16], почему чести не отдаешь, под арест захотел!.. А сегодня его самого не пускают с бабой, – фыркнул Тихий. – По-моему, всех баб бросить к чертовой матери, – добавил он и сплюнул. – А то таскают…
– Нижним чином обозвал, – осведомился сосед справа от меня в заячьей капелюхе[17] с саквояжем в руке, – и вы ничего?
– А што ж?! – удивился Тихий.
– Хм! – фыркнул сосед в капелюхе. – Да я его в морду бы!..
– Кого?! Ахвицера? – удивился Тихий.
– А то ж ково? – усмехнулся «капелюха». – Мало ли мы их перебили!.. – добавил он и покосился на меня.
«Вот тебе и раз, – подумал я, – вот так рота, куда я попал, – здесь такие речи, а когда дойдет до дела, что то будет – посмотрим, что дальше будет». Недаром Митя В…, удравши с фронта, ругал Добровольческую армию и говорил, что жестоко разочаровался в ней и ни за какие коврижки он не вернется к ней.
– Смирно! – раздался голос фельдфебеля.
– Напраааа-во! – На плечо! – Шагом марш!
Обходим повозки. Толпимся на узком тротуаре, держась за мокрые доски забора, чтобы не упасть в грязь, и наконец выходим на широкое шоссе. Уже окраина города. Наш 1-й батальон громадный, более тысячи человек, наша 2-я рота 280 человек. Идем в ногу, какая-то баба вышла за калитку, крестит нас и плачет. Выходим в поле. Легкий ветерок. Уже рассвело. Прощай, Бахмут! Когда-то я тебя увижу снова. Увижу ли?
Зайцево. 12 декабря ст. ст. Вот уже четвертый день идем. Грязь невылазно. Грязны все, как свиньи. Сделали от Бахмута верст[18] семьдесят. Ноги у меня страшно натерты, так, что больно разуваться. Портянки прилипают к натертым местам, страшно больно. У Тихого тоже – это просто мука. Особенно если приходится идти по густой грязи. Сапог задерживается, нога движется в сапоге, и раны болят. Сегодня делаем дневку. Пообедали суп, в котором горошина горошину догоняет с дубиной, – смеялись солдаты. Лежим в теплой хате мужика на соломе, как свиньи. Я пользуюсь отдыхом, пишу дневник. Тихий все спрашивает, что я пишу, и, узнав, что дневник, и увидев в нем рисунки, просит срисовать его. Делать нечего, рисую.
Горловка. 13 декабря ст. ст. Сегодня вечером пришли в Горловку. Людей осталось в роте ¾ всего состава, остальные разбежались, но все-таки рота большая, человек до 200 будет. Остановились у одного еврея. Жид боится, наверное, чтобы его не ограбили, и всячески заискивает, поддакивает и расхваливает нашу армию. Дал нам простыни, подушки. Сам с семьей спал где-то в стороне, а нам предоставил спальни и столовую. Тихий, Половинка и другие прямо в сапогах полезли на одеяла и затеяли борьбу на мягких перинах. Я спал в столовой на кушетке. Первый раз за две недели спал на подушке и простыне. Сменил белье. К нам примазался какой-то солдат с фронта, очевидно дезертир. Он говорит, что армия наша разбита и отступает и что кадетам, очевидно, конец.
– Ну, брат, мы еще покажем им конец! – вскочил Тихий и схватил винтовку. – Мы еще повоюем! – щелкнул затвором он.
– Оставь, Тихий! – успокоил его Половинка, отводя в сторону ствол винтовки. – На печке-то мы все вояки!
14 декабря. В 5 часов утра разбудили. Раздали приготовленные в походной кухне галушки и выступили. Шел мелкий дождь. Ноги страшно ныли, особенно левая. На ступне была сплошная язва. Идем вразброд. Винтовки уныло болтаются за спиной. Ох, если бы можно было, я бы с удовольствием ее забросил. Сумка на повозке. Сзади батальона идут повозки с бабами. «Куда их везут! – ругались солдаты. – Небось наш брат подобьется, так бросают, пропадай так, а эту сволочь возят!» Это была сущая правда. Правда, я ничего не заявлял, но уже слыхал много заявлений о том, что у многих ноги натерты и они не могут идти, но в повозках им было отказано. «Повозки перегружены – нет мест!» – заявило начальство.

Иван Константинович Айвазовский — всемирно известный маринист, представитель «золотого века» отечественной культуры, один из немногих художников России, снискавший громкую мировую славу. Автор около шести тысяч произведений, участник более ста двадцати выставок, кавалер многих российских и иностранных орденов, он находил время и для обширной общественной, просветительской, благотворительной деятельности. Путешествия по странам Западной Европы, поездки в Турцию и на Кавказ стали важными вехами его творческого пути, но всё же вдохновение он черпал прежде всего в родной Феодосии.

Неизданные произведения культового автора середины XX века, основоположника российского верлибра. Представленный том стихотворений и поэм 1963–1972 гг. Г. Алексеев считал своей главной Книгой. «В Книгу вошло все более или менее состоявшееся и стилистически однородное из написанного за десять лет», – отмечал автор. Но затем последовали новые тома, в том числе «Послекнижие».

Биография А Фадеева, автора «Разгрома» и «Молодой гвардии», сложна и драматична. И хотя к этой теме обращались уже многие исследователи, И. Жукову удалось написать книгу, предельно приближающую читателя к тем событиям и фактам, которые можно считать основополагающими для понимания и личности самого Фадеева, и той эпохи, с которой неразрывно связана его жизнь.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.
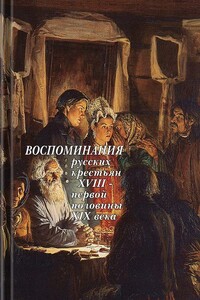
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
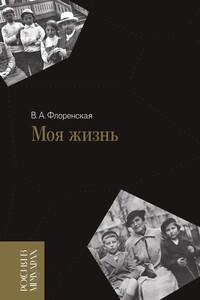
Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.
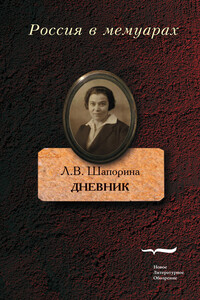
Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.