Дневник - [2]
История моего знакомства с Ярославом такова. В киевском архиве в 2011 году меня заинтересовал молодой человек, сидевший рядом и читавший газету «Киевлянин», которую основал мой прадед В.Я. Шульгин. Мы разговорились. Оказалось, что Ярослав Тинченко – историк, занимающийся историей именно Алексеевского полка. К моему удивлению, он был хорошо знаком с воспоминаниями моего отца. Совсем неожиданным для меня был его вопрос – знаю ли я, где находится дневник Александра Судоплатова. Узнав, что он хранится у меня, Ярослав пояснил мне, насколько это ценный исторический источник, и предложил опубликовать его. Эта встреча и привела к публикации дневника в России. «Ведь наша жизнь прошла для будущего», – писал Судоплатов в 1975 году. Произошло именно так, как он и мечтал – «что там в России кто-то возьмет [дневник] в библиотеке».
Судоплатов был сыном сельского священника на Украине и сам учился в духовной семинарии, откуда ушел в Добровольческую армию. В октябре 1919 года под Харьковом он поступил в учебный батальон Первого Партизанского генерала Алексеева пехотного полка, служил в команде связи у поручика Кальтенберга, а в Геническе в офицерской роте как унтер-офицер. Вот что пишет папа о поручике в своих воспоминаниях: «Офицер нашего штаба, пор[учик] Кальтенберг, вернувшись как-то вечером в свою квартиру (в Батайске), нашел стену своей комнаты развороченной, а под кроватью неразорвавшийся шестидюймовый снаряд. Это послужило у нас темой для безобидных шуток о педантичном, любящем порядок поручике с немецкой фамилией. Смеялись не зло, а любя»[2]. Судоплатов в отцовских воспоминаниях не упоминается. Он эвакуировался из Севастополя в Галлиполи на корабле «Саратов» вместе с генералом Кутеповым, потом в Болгарию, а затем, как и отец, попал в Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. – Югославия). В Белграде Судоплатов переписал свой дневник, пометив 1924 годом и разместив в нем свои замечательные рисунки; многие из них делались на месте событий. В какой-то момент – когда именно, мне неизвестно – он уехал во Францию и в 1970-е годы жил в предместье Парижа Масси.
Семья моего отца происходила из Торжка, маленького древнего города в Тверской области, который всегда фигурировал в папиных детских воспоминаниях. Дед в молодости был социал-демократом, приветствовал Февральскую революцию, но не Октябрь – отец же поступил во Второй Московский кадетский корпус буквально за полтора месяца до Октябрьского переворота. Он любил рассказывать, как уже во время Гражданской войны он слышал в Ливнах речь Троцкого, ораторские способности которого произвели на подростка большое впечатление. Троцкий стоял на крыше бронепоезда буквально в нескольких шагах от него.
В отличие от Судоплатова, который пошел в Первый Партизанский генерала Алексеева пехотный полк сознательно, отец, несмотря на то что избрал военную карьеру, попал в него случайно – в результате сложных передвижений семьи во время войны, когда многие территории быстро переходили от белых к красным и наоборот. Год, проведенный в Добровольческой армии, он называл самым интересным в его жизни: «То, что произошло со мной <…> было мне и интересно и отвечало мечтам тринадцатилетнего мальчика. А мечтал он, этот мальчишка, о героических подвигах и о том, как он вернется к отцу героем с Добровольческой армией, в победу которой он верил. Кто мог предполагать тогда, что события разовьются так стремительно и так бесповоротно, и совсем не так, как мечталось»[3].
Уже в Крыму папу, как малолетнего, отправили в Константиновское училище в Феодосии, о чем упоминает Судоплатов[4], а через два месяца, в начале ноября 1920 года, он эвакуировался на крейсере «Корнилов» в Константинополь, затем в Югославию. Там отец окончил Крымский кадетский корпус; ему, как и многим юным добровольцам, оказавшимся за границей без семьи, корпус ее заменил. Кадетские корпуса и женские институты по старому образцу были основаны в Югославии при финансовой поддержке короля Александра.
Юные добровольцы уезжали из России без средств и семьи. В отличие от большинства других европейских стран, в которых российские беженцы особого сочувствия не вызывали, Королевство сербов, хорватов и словенцев финансировало не только их среднее, но и высшее образование, обеспечивая университетскую молодежь небольшими стипендиями – 400 динаров в месяц. На такую стипендию жил отец, закончивший университет как горный инженер. Воспользовался ли Судоплатов такой стипендией, чтобы получить высшее образование, мне неизвестно, как неизвестна и его дальнейшая биография, кроме того факта, что он был женат[5].
В 1920 году король Александр (Карагеоргиевич) учредил Государственную комиссию по приему и устройству беженцев, а она установила месячные материальные пособия для эмигрантов, которые они получали первые годы. Гостеприимство объяснялось хорошими отношениями России и православной Сербии и тем, что у короля Александра были особые связи с Россией и даже с царской семьей, но не только этим. Хотя в Югославии осели в основном казаки и военная эмиграция, ее профессиональная часть сыграла важную роль в развитии и, как это ни парадоксально, в европеизации отсталой страны. Педагоги, врачи и инженеры быстро находили работу. Поэтому молодежь шла в инженеры – многие, кого я знала из югославской эмиграции, учились на инженерных факультетах. Русские профессора заняли хорошие места во всех университетах (правда, их было немного), а в некоторых случаях создавали ранее не существовавшие кафедры. Так, мой дед А.Д. Билимович создал кафедру экономики в Люблянском университете. Конечно, для преподавания требовалось знание сербохорватского или словенского языка, которым они вынуждены были овладеть, вначале читая лекции на немецком или французском.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».
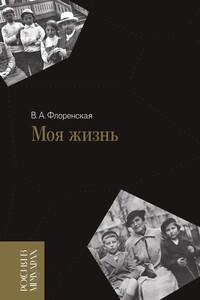
Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
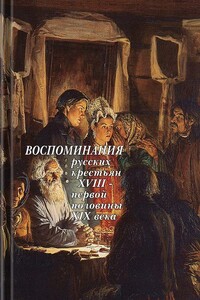
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.
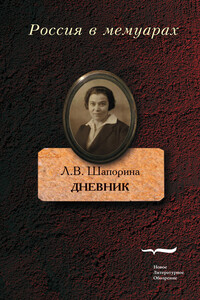
Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.