Дневник - [4]
В одном из писем Судоплатов предлагал прислать свои наброски «Галлиполи» и, если они отцу понравятся, напечатать под своим именем. Может быть, по тем же соображениям, что и мой отец, он просил не указывать «подлинного имени» в публикации выдержек из своего дневника. Судоплатов писал отцу и о своих рассказах: «Когда-то я послал в “Русск[ую] мысль” рассказ – они напечатали. Но второй не поместили. Хотя второй был, по-моему, интересней». Ни названия рассказа, ни даты публикации он не указывает. Получается, что его пять писем – единственный источник информации о жизни Судоплатова в эмиграции. В последнем он размышляет о положении Алексеевского полка. Сравнивая его с Корниловским и Дроздовским полками, он пишет: «Правда, они всегда держались “на материке” компактно и внутренняя организация у них была продумана. Дроздовцы в Галлиполи имели несколько сот в полку бывших пленных, их так дрессировали там, что можно было равнять их с полком мирного времени. А ведь вместо пленных (которых сажали на пароходы почти насильно) можно было вывезти людей, для которых не было уже места. Наш полк хозяйственно был плохо организован. Но наш командир был не хуже Туркула[8], и беда наша была в том, что не успевали мы переформироваться, как нас посылали куда-то “на воды” затыкать дырки. Это была летучая пожарная команда».
Александр Судоплатов остается загадкой. Размышляя о нем, я задаюсь вопросом: почему человек, который вел столь подробный дневник в тяжелых условиях войны, не продолжил писательскую деятельность в эмиграции? Но теперь уже никого не спросишь. Вполне возможно, он и писал, но, будучи человеком скромным или из-за отказа в «Русской мысли», это занятие скрывал. При этом он по собственной инициативе написал отцу о своем дневнике, может быть с мыслью, что тот предаст его гласности, но это уже моя интерпретация. Ведь Судоплатов расставался со столь важным для него документом. Интерпретация поведения в данном случае имеет отношение к памяти. Толковать – значит помнить.
Благодаря киевской встрече и заинтересованности в Дневнике И.Д. Прохоровой и А.И. Рейтблата, мы смогли предать гласности этот забытый исторический документ.
Дневник
Добрая память дорогих алексеевцев
Внимая ужасам войны,При каждой новой жертве бояМне жаль не друга, не жены,Мне жаль не самого героя…Увы, утешится жена,И друга лучший друг забудет;Но в мире есть душа одна –Она до гроба помнить будет.……………………….Им жаль несчастных матерей,Им не забыть своих детей,Погибших на кровавой ниве,Как не поднять плакучей ивеСвоих поникнувших ветвей.Некрасов[9]
10 февраля / 28 января 1924 года
Несколько дней тому назад я, скуки ради, решил перечитать мои дневники, написанные на Кубани и в Крыму карандашом на отдельных тетрадках, добытых различными способами и в разное время. Каково же было мое огорчение, когда я, перелистывая старые записи, увидел, что многие страницы сплошь стушевались и не только не видно [некоторых] слов, но даже трудно определить отдельные строчки. Так как дневники эти составляют для меня большую память и они дороже мне последних брюк, то я решил немедленно их переписать заново, чернилами и в одной большой тетради. Труд нелегкий и долгий, но только одна ценность этих листочков и придает мне бодрости. Сегодня начинаю – не знаю, когда окончу. Буду переписывать все дословно, переведу и все рисунки с их характерным начертанием; и, переписывая все это вторично, буду переживать эти памятные годы. Опять вспоминать Кубань, где я нередко писал дневник мимолетом в станицах, Кавказские горы, где потерял надежду эвакуироваться и уничтожил дневники, Крым – где опять восстановил. Десанты, в которых трепались дневники, нередко пробуя морскую ванну. И, наконец, последняя тетрадь на транспорте «Саратов», на котором я ушел, покинув Родину. Так как дневники часто уничтожались, а потом снова восстанавливались, то я мог делать погрешки, небольшие, правда, в датах, а затем в названии сел, а особенно кубанских станиц, что и есть ужасно, к сожалению, я не могу по памяти их воспроизвести сейчас. Но для меня это не важно, важны факты, а они все, надеюсь, будут переписаны верно. Пишу это и даю слово ревностно довести до конца начатое дело, чтобы оставить себе на память «дела давно минувших дней» и в минуты уныния забываться в дорогих строках далекого времени.
Александр Судоплатов
10 февраля н. ст. 1924 года
Белград
Сербия
1919 год
9 декабря ст. стиля. Бахмут[10]. Сегодня рано утром (еще темно) нас разбудил взводный. «Вставайте! – говорил он, входя в комнату. – Выходите с вещами и с винтовками, да быстро!» – добавил он, видя, что мы «нежимся» на соломе, удивленные таким ранним визитом его. Делать нечего, встаем и быстро одеваемся. Тихий[11] в потемках натягивает штаны, бормоча под нос: «Чого цэ так рано – мабуть большевыкы блызько!»[12] – заключает он. В душной комнате сопенье и шорох одевающихся. Хозяин, разбуженный вошедшим взводным, молча слез с печки и, придерживая одной рукой кальсоны, осторожно ступая босыми ногами, чтобы не наступить на кого-либо из нас, пробрался к лампе, и через минуту комната озарилась тусклым светом.

Иван Константинович Айвазовский — всемирно известный маринист, представитель «золотого века» отечественной культуры, один из немногих художников России, снискавший громкую мировую славу. Автор около шести тысяч произведений, участник более ста двадцати выставок, кавалер многих российских и иностранных орденов, он находил время и для обширной общественной, просветительской, благотворительной деятельности. Путешествия по странам Западной Европы, поездки в Турцию и на Кавказ стали важными вехами его творческого пути, но всё же вдохновение он черпал прежде всего в родной Феодосии.

Неизданные произведения культового автора середины XX века, основоположника российского верлибра. Представленный том стихотворений и поэм 1963–1972 гг. Г. Алексеев считал своей главной Книгой. «В Книгу вошло все более или менее состоявшееся и стилистически однородное из написанного за десять лет», – отмечал автор. Но затем последовали новые тома, в том числе «Послекнижие».

Биография А Фадеева, автора «Разгрома» и «Молодой гвардии», сложна и драматична. И хотя к этой теме обращались уже многие исследователи, И. Жукову удалось написать книгу, предельно приближающую читателя к тем событиям и фактам, которые можно считать основополагающими для понимания и личности самого Фадеева, и той эпохи, с которой неразрывно связана его жизнь.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.
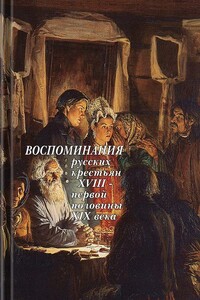
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
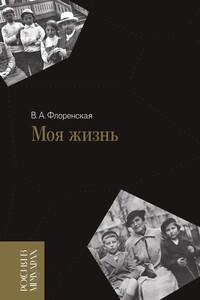
Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.
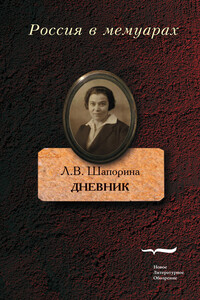
Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.