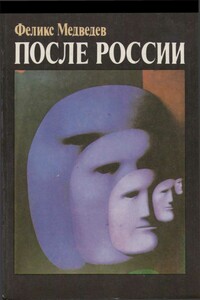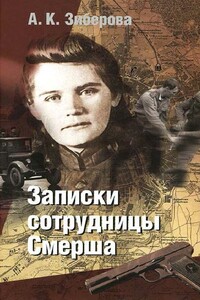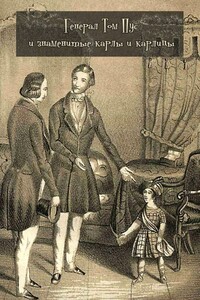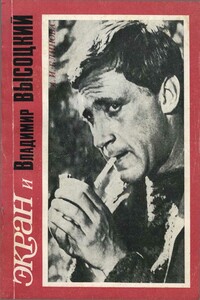…Вот так, таким языком разговаривала тётя Соня. Как-то остановила меня, когда я шёл с работы:
— Медаль не хотят мне давать. Ну как вам это нравится? Всем дают, меня обходят. Знаете отчего? Тычу носом, указываю на недостатки, критикую на собраниях. У начальства я как лещевая кость в горле. Они думают, что я потрепыхаюсь и уймусь, а ещё, того пуще, уйду с работы. Не на ту напали. Принесут медаль на блюдечке. Я ли не ветеран? Я ли не заслужила? Сорок пять лет с хвостиком в строю. Работала в Госбанке, в сберкассе. Начальником отдела была. Теперь вот кассир в парикмахерской. Начальники надуваются, как лягушки, говорят, наша парикмахерская на проспекте Ленина самая лучшая в городе. Далеко ей, ещё надо учиться и учиться мастерам. И подачки не брать! Гордость надо иметь…
Эпопея с медалью «Ветеран труда» длилась долго.
— Дело принципа, — говорила тётя Соня. — Тут надо быть упрямой. У меня карельское упрямство от отца. Надо бороться, надо уметь постоять за себя. Необходимо быть сильной.
— Мужчины боятся сильных женщин, — говорю я.
— Это я знаю. Слава богу, прожила долгую жизнь. Послушайте, мы знакомы уже давно. Заходите сегодня вечером на беседу. У меня сегодня памятный день. Печальный и радостный. Заходите, прошу вас. А я редко кого прошу.
Софья Владимировна в тот вечер была одна. На столе — чай, сушки, варенье из морошки.
— Мне кажется, вы не верите в любовь с первого взгляда, — сказала она.
— Не верю, — ответил я.
— И зря. Я в него влюбилась сразу, как только увидела. Случилось это событие 1 мая 1935 года. В клубе лыжной фабрики. Шёл, как водится, праздничный концерт: песни, затем частушки, чего я страсть как не люблю, чечёточник приезжий выступал. После него вышел высокий парень, копна волос, лучистые глаза. Закинул слегка голову и… засвистел. Ах, как ладно! Соловей курский. В моде тогда был жанр, который назывался художественный свист. Не смейтесь. Дело не простое: тут и слух нужен, и уменье недюжинное. Нынче нет такого на эстраде, как и чечёточников, перевелись.
После концерта, как всегда, танцы. Осмелилась, подошла, пригласила на дамский вальс. Обнял он меня, и голова моя закружилась. Во рту пересохло. Он спрашивает, как звать, а я онемела. Пошёл провожать. Дом наш в центре Петрозаводска стоял на углу улиц Ленина и Дзержинского. Деревянный, двухэтажный — отец мой служил врачом, начал практиковать ещё до революции, человек не бедный.
Разговор тот первый забылся, а вот его весёлая, ласковая рука, лучистые глаза вот тут живут в груди.
Очевидно, мы в тот вечер выясняли — кто мы и что мы. Мне двадцать лет, ему девятнадцать, оба мы родились в мае, я — 19-го, он — 20-го. Оба родились в Петрограде. Я окончила финансовый техникум, работаю в Госбанке, он — актёр театра, самоучка. Я тоже играла в драмкружке. Мой папа и его мама — врачи. Как звали моего провожатого, я уже успела узнать: Женя Кузнецов, Евгений Борисович Кузнецов.
У меня были ухажёры, но с того дня Женя потеснил всех и вошёл навсегда в моё сердце. Понимаете, навсегда. Мы бросились в объятия друг друга, не видя и не слыша ничего вокруг. Как в омут. Истинно сказано — как в омут.
Вскоре сыграли свадьбу. Отец мой выделил нам комнату. Мы взяли отпуск и не выходили из этой комнаты целый месяц.
Когда я появилась на работе, меня не узнали: худая, чёрная с лица, круги под глазами. Я не могла жить без Жени ни секундочки. Где он, что с ним?
Как он был красив! Крепкие ноги, широкая грудь. Я только на ней и засыпала. На работе сижу, ошибки делаю — о нём думаю.
Как-то Женя сказал: «Сонча! Ты для меня весь свет в окне». Он имя мне придумал — Сонча. «Нет у меня никого дороже. Но я ещё подмастерье, мне надо учиться. Сонча, у нас не должно быть детей. Пока. Если появится ребёнок, я уеду». Я смеялась, а он целовал меня.
Пролетел год, как один денёк. И случилось то, что должно было случиться. Радостная, забыв о тех его досадных словах, я сообщила Жене, что у нас будет ребёнок.
Когда это стало видно по моей фигуре, он перестал водить меня к нашей набережной.
Прихожу с работы, он сидит, голову повесив.
— Сонча, я уезжаю. Мне здесь душно. Я задыхаюсь в этом болоте.
И уехал. Как я жила дальше, не помню. Хотелось удавиться, и сделала бы, если бы не живот, который я любила и которого он так стыдился. Затем наступило отупение. Перестала есть. Заставляла себя спать весь день по воскресеньям. Хотела в своих снах его увидеть, а сон не приходил.
Родился мальчик, но мне всё было безразлично. Одна мысль — как вернуть Женю. Я никого не хотела видеть. У меня стали выпадать волосы. Отец звал врачей, своих коллег. Все говорили в один голос — душевное заболевание плюс дистрофия.
Отправляют меня в специальный санаторий под Ленинградом. О ребёнке я не волновалась — у него были тридцать три няньки: моя мама, сестра Татьяна, мама Жени, она врач и следила за малышом. Эдуардом назвали. Мальчик крепенький, весёлый. Тогда в моде были Ромуальды, Эдуарды, Арнольды и Адольфы. Адольфы понимаете почему? Германский Адольф другом Сталину был.
Скорее бы уехать в санаторий. Никого не хочу видеть, никого. Я и грудью ребёнка не кормила. Молоко пропало.




![Минута жизни [2-е изд., доп., 1986]](/storage/book-covers/3c/3c7f35abcd5aebe2413f0895f53c3182ff798883.jpg)