Цезарь - [157]
Кальпурнию предупредили об обрушившемся на нее горе, и она приняла на пороге бездыханное тело своего мужа. Вызвали врача Антистия.
Цезарь умер, но из всех двадцати трех ран, что нанесли ему, лишь одна, в грудь, оказалась смертельной. Поговаривали, что это был второй удар.
Согласно своему плану, заговорщики собирались пронести тело Цезаря по улицам Рима, а затем бросить его в Тибр; все его имущество конфисковать, а все принятые им законы аннулировать. Но из опасения, что консул Антоний и начальник конницы Лепид, исчезнувшие во время убийства, могут возникнуть во главе возмущенной армии и народа, не решились исполнить задуманное.
На следующий день Брут, Кассий и остальные заговорщики вышли на Форум и обратились к народу. Но их речи начинались и заканчивались довольно странно, так как народ словно не слышал, ибо не выражал ни возмущения, ни одобрения. Из этого полного безмолвия можно было сделать лишь один вывод: народ чтит Брута, но жалеет Цезаря.
В то же время в храме Терры собрался Сенат. Антоний, Планк и Цицерон выступили с предложением о всеобщей амнистии и призвали народ к взаимопониманию и миру. Они объявили, что заговорщикам ничто не грозит, более того, Сенат издал декрет, в котором особо отмечались их заслуги.
После принятия этого декрета Сенат завершил свое заседание, а Антоний отправил в Капитолий своего сына, чтобы тот мог служить в качестве заложника для заговорщиков, которые отступили туда под защитой римлян. Когда все собрались, объявили о мире, все начали обниматься. Кассий обедал у Антония, Брут — у Лепида. Остальных заговорщиков приглашали то в один дом, то в другой, кого — к друзьям, кого — просто к новым знакомым. Видя это, каждый думал, что все уладилось в рамках разумного и что Республика восстановлена на вечные времена. Но при этом не учли одного: мнения народа.
На следующий день Сенат собрался снова и в самом почтительном тоне выразил Антонию благодарность за то, что ему удалось предотвратить новую гражданскую войну. Затем Брут был осыпан почестями. Потом последовало перераспределение провинций: Брут получил остров Крит, Кассии — Африку, Требоний — Азию, Кимвр — Вифинию и, наконец, Альбин — часть Галлии, находившуюся в бассейне реки Пад.
Между тем все уже в открытую начали поговаривать о существовании завещания Цезаря. Говорили, что Цезарь составил его в сентябре прошлого года в своем поместье в Лавикании и что, запечатав его, отдал на хранение старшей весталке. Своим завещанием он делал наследниками троих.
Этими наследниками стали внуки его сестер. Первый, Октавий, получал три четверти имущества, вторым был Луций Пенарии, а третьим — Квинт Педий[443]. Каждый из этих двоих получал по одной восьмой из наследства. Более того, Цезарь усыновлял Октавия и передавал ему свое имя. В завещании были упомянуты многие его друзья — почти все ставшие его убийцами, — они назначались опекунами его сыновей, если бы те появились у Цезаря. Децима Брута, того самого, который приходил к нему домой, он назвал среди наследников «второй ступени». Народу Цезарь завещал в общественное пользование свои сады над Тибром, а каждому гражданину — по триста сестерциев.
Вот какие слухи распространялись в народе, и все это, конечно, будоражило и волновало всех.
Приближалось еще одно событие, которое пугало многих, — похороны. Поскольку тело не было брошено в Тибр, то его следовало похоронить. Вначале думали похоронить тайно, но побоялись взбудоражить этим народ. Кассий высказался за то, что лучше уж рискнуть и не делать похороны Цезаря публичными, но Антоний так просил Брута, что тот в конце концов сдался.
Это была вторая ошибка, которую он допустил. Первая заключалась в том, что он сохранил Антонию жизнь. Сначала Антоний прочитал завещание у себя дома. Все, о чем говорилось ранее на Форуме, на площадях и в закоулках Рима, оказалось правдой. Когда народ узнал, что Цезарь оставил свои сады над Тибром в общественное пользование и по триста сестерциев каждому гражданину, тут же раздались плач и стоны, люди начали доказывать преданность своему покойному императору и скорбеть по поводу его судьбы, а также весьма сожалеть о случившейся трагедии.
Именно этот момент выбрал Антоний для выноса тела на Марсово поле. Там, рядом с гробницей дочери Цезаря Юлии, был сооружен погребальный костер, а перед ростральной трибуной — позолоченное надгробие в виде храма Венеры-прародительницы. В храме стояло ложе из слоновой кости, покрытое пурпурными и золотыми тканями, поверх которых лежало оружие покойного и тога, в которой он был убит. Затем, поскольку стало ясно, что для шествия с приношениями для погребального костра одного дня не хватит, — так много было желавших попрощаться с Цезарем, — объявили, что каждый может приходить на Марсово поле без какого-либо установленного порядка, любым путем.
К тому же, начиная с рассвета, для народа устраивали погребальные игры, а во всех спектаклях, объявленных Антонием, пели специально написанные стихи, чтобы возбудить в народе скорбь и негодование по поводу гибели Цезаря; в том числе исполнялся и монолог Аякса из пьесы Пакувия, в котором были следующие слова: «Не я ль моим убийцам был спаситель?»
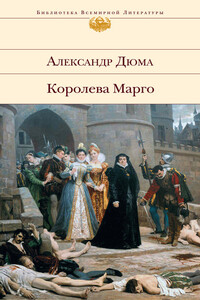
Роман французского классика Александра Дюма-отца «Королева Марго» открывает знаменитую трилогию об эпохе Генриха III и Генриха IV Наваррского, которую продолжают «Графиня де Монсоро» и «Сорок пять». События романа приходятся на период религиозных войн между католиками и гугенотами. Первые шаги к трону молодого принца Генриха Наваррского, противостояние его юной супруги Марго, женщины со своеобразным характером и удивительной судьбой, и коварной интриганки – французской королевы Екатерины Медичи, придворная жизнь с ее заговорами и тайнами, кровавые события Варфоломеевской ночи – вот что составляет канву этой увлекательной книги.
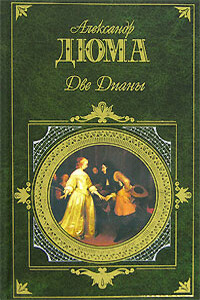
В романе знаменитого французского писателя Александра Дюма «Две Дианы» присутствуют все компоненты, способные привлечь к нему внимание читателя. Здесь есть зловещие тайны и невинная героиня – жертва коварных интриг, есть дуэт злодеев – Диана де Пуатье и коннетабль Монморанси, есть, наконец, благородный герцог де Гиз. А красочно воссозданная историческая канва, на фоне которой происходит действие романа, добавляет к его достоинствам новые грани.
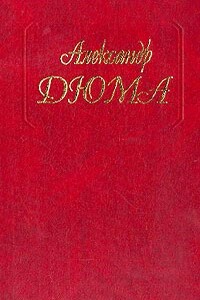
Роман Дюма «Робин Гуд» — это детище его фантазии, порожденное английскими народными балладами, а не историческими сочинениями. Робин Гуд — персонаж легенды, а не истории.
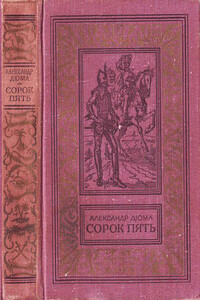
Роман является завершающей частью трилогии, в которой рисуется история борьбы Генриха Наваррского за французский престол.
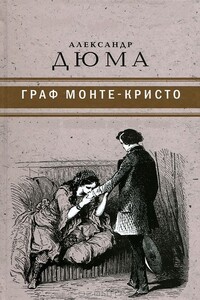
Сюжет «Графа Монте-Кристо» был почерпнут Александром Дюма из архивов парижской полиции. Подлинная жизнь Франсуа Пико под пером блестящего мастера историко-приключенческого жанра превратилась в захватывающую историю об Эдмоне Дантесе, узнике замка Иф. Совершив дерзкий побег, он возвращается в родной город, чтобы свершить правосудие – отомстить тем, кто разрушил его жизнь.Толстый роман, не отпускающий до последней страницы, «Граф Монте-Кристо» – классика, которую действительно перечитывают.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.