Цемах Атлас (ешива). Том второй - [5]
— Ай-ай, детки, не сегодня-завтра придет Мессия, а евреи еще не готовы.
Седобородые евреи вздыхали вместе с ним, а за их согбенными спинами раскачивались ученики, словно тонкие ореховые деревца, когда в лесу бушует буря и стонут старые дубы. Юные хофец-хаимники верили в пророчество своего ребе, что вот-вот придет Мессия, и изучали трактаты раздела «Кдошим», где говорится, как надо приносить жертвы в Храме.
Святой праведник не ездил на дачу, из-за преклонного возраста его боялись трогать с места. На дачу ездили его сыновья, зятья и внуки. Между наследниками долго шел тихий спор, кто из них станет исполняющим обязанности Хофец-Хаима. Старшие вообще не хотели слышать о том, чтобы кто-то стал руководителем ешивы в силу наследования потому лишь, что висит на ветвях большого дерева, великого человека — своего отца, тестя или деда. Младшие ученики ссорились со старшими и между собой. Часть учеников утверждала, что им нужен глава ешивы с острым умом, знаний у них и у самих хватает. Их противники отвечали, что нужен как раз глава ешивы — знаток, а ум у них и у самих острый. Третьи желали в директоры ешивы высокодуховного человека, а четвертые настаивали на том, чтобы директор был сугубо земным и практичным. Так как старенький Хофец-Хаим был еще жив и открытый спор стал бы позором для всей семьи, то решили, что внешне ешивой должны руководить все наследники. Однако втихаря продолжалась конкуренция, и у каждого из начальников собирались на даче ешиботники, которые слушались именно его.
Постороннему человеку было трудно догадаться, кто из наследников глава ешивы, а кто инспектор. Кто духовный директор, а кто земной. Все они были широкоплечими евреями с лицами, до глаз заросшими густыми бородами, с торчащими вперед животами и тяжелыми седалищами. Новые подрубленные лапсердаки лопались на них спереди и сзади. Они прогуливались по местечку размеренной поступью, задумчиво покашливая. Их широкие волосатые ноздри с удовольствием вдыхали сухой сосновый воздух. На каждом третьем шаге они останавливались. Ученому еврею не подобает бегать, особенно когда он находится на даче и никуда не торопится. Каждый из директоров держал в правой руке зонтик, а его левая рука была тем временем заложена за спину, словно с левой стороны у него была суббота[6]. Когда солнце начинало припекать, наследники Хофец-Хаима раскрывали свои зонтики над теми, кто их сопровождал, каждый — над учениками, поддерживавшими его. Временами духовный директор наклонял голову к какому-нибудь проворному парню, нашептывавшему ему что-то на ухо относительно земного директора. Старший выслушивал младшего и улыбался в усы, топорщившиеся от удовольствия, как зубья железного гребешка. Однако ему все-таки удавалось справиться с соблазном, и он не опускался до злоязычия в отношении деверя или двоюродного брата. Он вообще ничего не отвечал, но по тому, как он держал свой черный шелковый зонтик над головой злоязычника, тот мог догадаться, насколько его нашептывание понравилось директору.
Крутился на даче и глава ешивы без учеников, еврей, проводивший свои уроки в Барановичах[7] или в Слониме[8]. Разговорчивый и веселый, с открытым сердцем и с замызганным арбеканфесом, он ходил с простой толстой палкой, как какой-нибудь сельский еврей, и останавливался, чтобы поговорить с такими же простыми сельскими евреями, которые возили на своих подводах бревна на картонную фабрику. Его можно было увидеть стоящим рядом с коровниками, когда еврейки доили коров. Видели даже, как он стоял посреди рынка и гладил лошадей. У него были воспаленные красные веки и доброжелательные водянистые глаза, полные детской восторженности. По его бороде, отнюдь не растрепанной и не клочковатой, как у какого-нибудь особо проницательного талдмудиста, было видно, что он не перелистывал ею страницы Талмуда, как перемешивают суп поварешкой, и не был склонен особо пыжиться, неподвижно сидя на одном месте. Он говорил открыто, что не уважает новомодных толкователей и их попытки додуматься до самого корня обсуждаемого вопроса, например, является ли запрет квасного в Пейсах запретом, налагаемым на человека, или же запретом, налагаемым на предмет. За такие речи от этого еврея, обучающего не пойми кого в Барановичах или в Слониме, далеко продвинувшиеся клецкие знатоки отворачивались с пренебрежением, как от недалекого меламеда для малышни. Однако главу ешивы, расхаживавшего с простой палкой, как простой сельский еврей, это не волновало. Он прогуливался в одиночестве по лесу и подолгу глядел на деревья, наклонялся, чтобы получше рассмотреть зеленые веера травы, какой-нибудь цветок, земляничину, червячка, и в восхищении шептал:
— Чудеса Творца! Чудеса Творца!
Принцами среди изучающих Тору были ешиботники из Мира. Даже по валкеникским пескам они прогуливались в выглаженных костюмах и старались, чтобы ни одна пылинка на них не села. Они писали золотыми американскими авторучками, держали очки в плоских кожаных футлярчиках, носили на руках часики с украшенными ремешками. Даже молодой паренек, если он учился в Мире, прежде, чем ответить кому-либо хоть слово, трижды смотрел, кто к нему обращается, и морщил лоб.
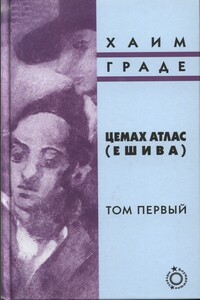
В этом романе Хаима Граде, одного из крупнейших еврейских писателей XX века, рассказана история духовных поисков мусарника Цемаха Атласа, основавшего ешиву в маленьком еврейском местечке в довоенной Литве и мучимого противоречием между непреклонностью учения и компромиссами, пойти на которые требует от него реальная, в том числе семейная, жизнь.
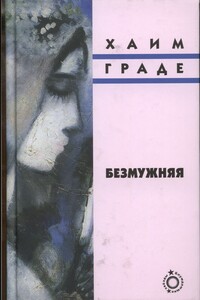
Роман Хаима Граде «Безмужняя» (1961) — о судьбе молодой женщины Мэрл, муж которой без вести пропал на войне. По Закону, агуна — замужняя женщина, по какой-либо причине разъединенная с мужем, не имеет права выйти замуж вторично. В этом драматическом повествовании Мэрл становится жертвой противостояния двух раввинов. Один выполняет предписание Закона, а другой слушает голос совести. Постепенно конфликт перерастает в трагедию, происходящую на фоне устоявшего уклада жизни виленских евреев.
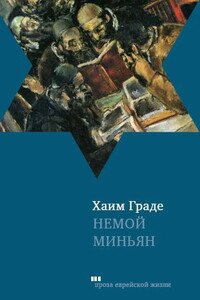
Хаим Граде (1910–1982), идишский поэт и прозаик, родился в Вильно, жил в Российской империи, Советском Союзе, Польше, Франции и США, в эмиграции активно способствовал возрождению еврейской культурной жизни и литературы на идише. Его перу принадлежат сборники стихов, циклы рассказов и романы, описывающие жизнь еврейской общины в довоенном Вильно и трагедию Холокоста.«Безмолвный миньян» («Дер штумер миньен», 1976) — это поздний сборник рассказов Граде, объединенных общим хронотопом — Вильно в конце 1930-х годов — и общими персонажами, в том числе главным героем — столяром Эльокумом Папом, мечтателем и неудачником, пренебрегающим заработком и прочими обязанностями главы семейства ради великой идеи — возрождения заброшенного бейт-мидраша.Рассказам Граде свойственна простота, незамысловатость и художественный минимализм, вообще типичные для классической идишской словесности и превосходно передающие своеобразие и колорит повседневной жизни еврейского местечка, с его радостями и горестями, весельями и ссорами и харáктерными жителями: растяпой-столяром, «длинным, тощим и сухим, как палка от метлы», бабусями в париках, желчным раввином-аскетом, добросердечной хозяйкой пекарни, слепым проповедником и жадным синагогальным старостой.
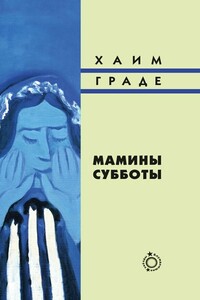
Автобиографический сборник рассказов «Мамины субботы» (1955) замечательного прозаика, поэта и журналиста Хаима Граде (1910–1982) — это достоверный, лиричный и в то же время страшный портрет времени и человеческой судьбы. Автор рисует жизнь еврейской Вильны до войны и ее жизнь-и-в-смерти после Катастрофы, пытаясь ответить на вопрос, как может светить после этого солнце.
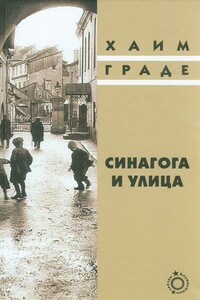
В сборник рассказов «Синагога и улица» Хаима Граде, одного из крупнейших прозаиков XX века, писавших на идише, входят четыре произведения о жизни еврейской общины Вильнюса в период между мировыми войнами. Рассказ «Деды и внуки» повествует о том, как Тора и ее изучение связывали разные поколения евреев и как под действием убыстряющегося времени эта связь постепенно истончалась. «Двор Лейбы-Лейзера» — рассказ о столкновении и борьбе в соседских, родственных и религиозных взаимоотношениях людей различных взглядов на Тору — как на запрет и как на благословение.
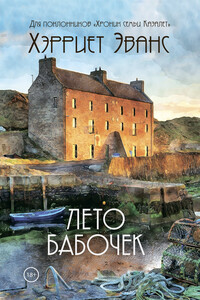
Давно забытый король даровал своей возлюбленной огромный замок, Кипсейк, и уехал, чтобы никогда не вернуться. Несмотря на чудесных бабочек, обитающих в саду, Кипсейк стал ее проклятием. Ведь королева умирала от тоски и одиночества внутри огромного каменного монстра. Она замуровала себя в старой часовне, не сумев вынести разлуки с любимым. Такую сказку Нина Парр читала в детстве. Из-за бабочек погиб ее собственный отец, знаменитый энтомолог. Она никогда не видела его до того, как он воскрес, оказавшись на пороге ее дома.
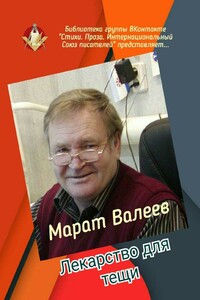
Международный (Интернациональный) Союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и журналистов является крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей. Союз был основан в 1954 году. В данный момент основное подразделение расположено в Москве. В конце 2018 года правление ИСП избрало нового президента организации. Им стал американский писатель-фантаст, лауреат литературных премий Хьюго, «Небьюла», Всемирной премии фэнтези и других — Майкл Суэнвик.

«Сто лет минус пять» отметил в 2019 году журнал «Октябрь», и под таким названием выходит номер стихов и прозы ведущих современных авторов – изысканная антология малой формы. Сколько копий сломано в спорах о том, что такое современный роман. Но вот весомый повод поломать голову над тайной современного рассказа, который на поверку оказывается перформансом, поэмой, былью, ворожбой, поступком, исповедью современности, вмещающими жизнь в объеме романа. Перед вами коллекция визитных карточек писателей, получивших широкое признание и в то же время постоянно умеющих удивить новым поворотом творчества.
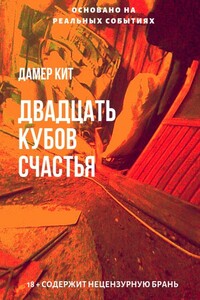
В детстве Спартак мечтает связать себя с искусством и психологией: снимать интеллектуальное кино и помогать людям. Но, столкнувшись с реальным миром, он сворачивает с желаемого курса и попадает в круговорот событий, которые меняют его жизнь: алкоголь, наркотики, плохие парни и смертельная болезнь. Оказавшись на самом дне, Спартак осознает трагедию всего происходящего, задумывается над тем, как выбраться из этой ямы, и пытается все исправить. Но призраки прошлого не намерены отпускать его. Книга содержит нецензурную брань.
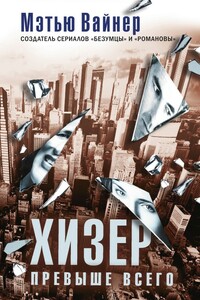
Марк и Карен Брейкстоуны – практически идеальная семья. Он – успешный финансист. Она – интеллектуалка – отказалась от карьеры ради дочери. У них есть и солидный счет в банке, и роскошная нью-йоркская квартира. Они ни в чем себе не отказывают. И обожают свою единственную дочь Хизер, которую не только они, но и окружающие считают совершенством. Это красивая, умная и добрая девочка. Но вдруг на идиллическом горизонте возникает пугающая тень. Что общего может быть между ангелом с Манхэттена и уголовником из Нью-Джерси? Как они вообще могли встретиться? Захватывающая история с непредсказуемой развязкой – и одновременно жесткая насмешка над штампами массового сознания: культом успеха, вульгарной социологией и доморощенным психоанализом.
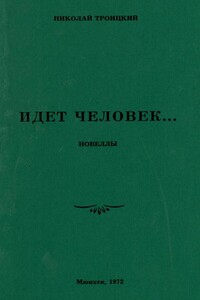
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
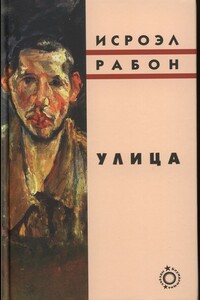
Роман «Улица» — самое значительное произведение яркого и необычного еврейского писателя Исроэла Рабона (1900–1941). Главный герой книги, его скитания и одиночество символизируют «потерянное поколение». Для усиления метафоричности романа писатель экспериментирует, смешивая жанры и стили — низкий и высокий: так из характеров рождаются образы. Завершает издание статья литературоведа Хоне Шмерука о творчестве Исроэла Рабона.
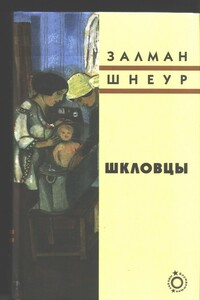
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
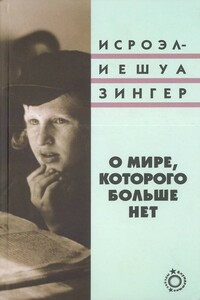
Исроэл-Иешуа Зингер (1893–1944) — крупнейший еврейский прозаик XX века, писатель, без которого невозможно представить прозу на идише. Книга «О мире, которого больше нет» — незавершенные мемуары писателя, над которыми он начал работу в 1943 году, но едва начатую работу прервала скоропостижная смерть. Относительно небольшой по объему фрагмент был опубликован посмертно. Снабженные комментариями, примечаниями и глоссарием мемуары Зингера, повествующие о детстве писателя, несомненно, привлекут внимание читателей.
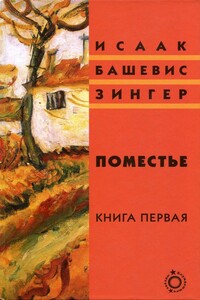
Роман нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера (1904–1991) «Поместье» печатался на идише в нью-йоркской газете «Форвертс» с 1953 по 1955 год. Действие романа происходит в Польше и охватывает несколько десятков лет второй половины XIX века. Польское восстание 1863 года жестоко подавлено, но страна переживает подъем, развивается промышленность, строятся новые заводы, прокладываются железные дороги. Обитатели еврейских местечек на распутье: кто-то пытается угнаться за стремительно меняющимся миром, другие стараются сохранить привычный жизненный уклад, остаться верными традициям и вере.