Бульвар - [28]
До конца репетиции оставался еще час, и я пощед в гримерку. Зашел в «офис». Ветров с Салевичем расставляли шахматы. Коньков сидел перед зеркалом с ролью в руках. Амур со шкафчика, который сам сделал и прикрепил к своему трюмо, доставал рюмки ставил на свой гримерный столик. Ветров сказал:
— Правильно, нефиг с ними церемониться. Приходят гении и начинают требовать, сами не зная чего.
— Правильно, правильно, — подхватил Амур, нарезая кровяную колбасу, — по-настоящему выдал. Пусть немного подумают и пошевелятся. А то мы для них — что хочу, то и ворочу.
Коньков тоже не молчал.
— Ты же дома подумай! Идешь на репетицию — так принеси какие-нибудь свои заготовки, возможные варианты решения сцен. А то все на ходу: давайте попробуем так, давайте эдак, или вообще — как-нибудь вверх головой. Как говорится, «от фонаря».
— Молодец, молодец! Пусть поймут, что актеры что-то значат. Дергают нас, как марионеток, за ниточки, а нам только квакать остается.
— Я вообще не понимаю, что он от меня хочет? — Коньков даже дернулся. — Подходит как-то и говорит: сыграй так, чтоб мне смешно было. И это там, где Блуд приносит известие про смерть князя! Потом, где действительно смешно должно быть, говорит, сыграй так, чтобы я заплакал. Странный он какой-то.
— Есть у них такая слабость, — опять имея в виду режиссеров, говорил Ветров, глядя на шахматную доску и двигая вперед коня.
— Это не слабость. Это или тупость, или выпендреж, — давал волю чувствам Коньков, — нам выходить на сцену и смотреть в глаза зрителю, а он может и не выйти даже на премьеру спектакля. Не получилось — подумаешь, невидаль какая! В первый раз, что ли? Чего стыдиться? Вот пусть актеры отдуваются. Все вопросы к ним. Они все стерпят.
Честно говоря, никакого утешения и тем более сочувствия я ни от кого не ждал. Опускаться до этого было бы в высшей степени не разумно. Двадцатилетний опыт работы в театре научил меня отвечать за свои промахи, ничего не перекладывая на чужие плечи. Здесь лучше всего подходит зэковское: не верь, не бойся, не проси. Из своего болота, в которое попал, сам и должен выбираться, в одиночестве. Руки никто не подаст — еще глубже подтолкнут, если будешь за чужие цепляться. Не кричи зря, не зови раненой птицей, попав в силок. Только по-волчьи: попав в капкан— перегрызай свою лапу, как бы больно не было, если хочешь быть. Сам перегрызай, своими клыками, своей слюной зализывай рану, чтоб не сдохнуть от потери крови. Нет и не будет помощи там, где вспыхивает молния успеха. Жестокая истина и правда в том, что если даже от самых грязных обстоятельств будет зависеть актерская удача — пусть даже мгновенное сияние той молнии — актер примет и полюбит эти обстоятельства. Ничего нет святого на пути к успеху — все гной, который может дать энергию, силу, чтобы пробиться сквозь пласты зависти, интриг. Главное — найти тот маленький уголек в роли, который можно раздуть до яркого пламени. Все остальное ерунда, в лучшем случае — игра в дружбу (пока не нужно будет делиться тем самым успехом), игра в скромного человека (с мыслями хама и жлоба), внимательного коллегу (которому на чужую боль и удачу к наплевать).
Помню, как-то на художественном совете я высказался против одного главного режиссера, который довел театр до уровня самодеятельности дома культуры. В репертуаре оставался только один вечерний спектакль для взрослых. Остальное — сказки для детей. Опустились, можно сказать, до последнего круга. И высказался жестко, круто, без всяких извинений: «Вы разложили театр, разленили его, разучили серьезно работать. Играем только зайчиков и луковичек и еще задние ноги коня. Зритель перестал относиться к театру, как к настоящему, живому. И зазвать его к нам стало большой проблемой. Вам нужно подать заявление и уйти с должности главного режиссера. Срочно подать, пока потолок не рухнул нам на головы и не раздушил всех окончательно, как жаб, и т.д.».
После моей речи настала гробовая тишина, и никто из моих коллег (а там были и Ветров, и Коньков, и Угорчик) не поддержал меня, только стыдливо опустили головы.
А все сказанное было чистой правдой. Горькой, болючей правдой. И не однажды за кулисами в гримерке ее говорили те же самые Коньков, Ветров, Угорчик. И знаю, что от сердца говорили, о самом наболевшем, о самом мучительном. Но там была другая диспозиция. Другая линия защиты, другая атака. Словно в бункере — никакая артиллерия не достанет. И если даже кто-то донесет в дирекцию, мол, недовольны, критикуют, ругают (а эта сфера в театре имеет богатую почву и дает пышное цветение), то можно сказать, что все это слухи, клевета, интриги, зависть бездарей.
А на художественном совете — было в лоб, грудь в грудь. Никакого спасительного бункера, где можно все списать на клевету и интриги. Здесь нужно отвечать за свои слова, держать удар. Но головы были опущены. Царило безмолвие.
Вот потому и цену их похвалы моего поступка отлично знал. А взорвался я, потому что был загнан в угол. Спасался. Нет кочки, на которую можно было опереться, чтобы вскочить, набрать разгон — и вперед к своему открытию, к неопределенности, к удивлению самого себя. Иначе все напрасно, все зря. Иначе ты просто чтец, который навязывает свою интонацию авторского текста зрителям, которые и сами могли еще с большим интересом прочитать пьесу дома, подключить свои фантазию, представляя героев по-своему. Мне необходимо оторваться от простого чтеца, изгнать его из себя и стать актером, вознестись к его космической высоте, где Солнце, Луна, звезды становятся друзьями, осветляя чистым, трепетным светом путь истины. Сознательно или несознательно, я все бросил на весы этого безумного результата.

Прямо в центре небольшого города растет бесконечный Лес, на который никто не обращает внимания. В Лесу живет загадочная принцесса, которая не умеет читать и считать, но зато умеет быстро бегать, запасать грибы на зиму и останавливать время. Глубоко на дне Океана покоятся гигантские дома из стекла, но знает о них только один одаренный мальчик, навечно запертый в своей комнате честолюбивой матерью. В городском управлении коридоры длиннее любой улицы, и по ним идут занятые люди в костюмах, несущие с собой бессмысленные законы.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
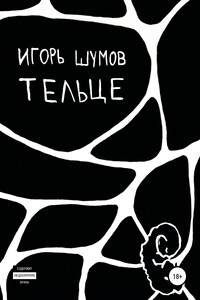
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).