Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [5]
Против такого подхода к чтению пастернаковской лирики в свое время решительно выступила Марина Цветаева — другой «московский» поэт, в чьей автобиографической прозе предстают проникновенные картины московского быта рубежа столетия. «Световой ливень» — пожалуй, лучшее, что было когда-либо написано о лирике Пастернака. В разделе эссе, озаглавленном «Пастернак и быт», Цветаева утверждает, что трудность понимания тех или иных мест у Пастернака заключается как раз в головокружительной точности и предметной конкретности его образного зрения; больше всего стихи Пастернака поражают подробностью и «прозаичностью» явленных в них картин повседневной действительности («быта»). Вот один из приведенных Цветаевой многочисленных примеров:
«В волчцах волочась за чулками» — Одну секунду! «Набор слов, всё ради повторяющегося ‘ча’»… Но, господа, неужели ни с кем из вас этого не было: репья, вгрызающиеся в чулки? Особенно в детстве, когда вы все в коротком[18].
Редкостное слово ‘волчцы’ легко принять за поэтическую вольность во имя метафоры «кусающейся» колючести, однако в действительности оно терминологически точно: у Даля находим «Волчец, общее название колючих сорных трав». Более того, Даль ошибся, отнеся ‘волчец’ к гнезду с заглавным словом ‘волк’. На самом деле, согласно «Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера (1986), оно этимологически восходит к ‘волочить’. Пастернак знать этого не мог (в более раннем словаре А. Г. Преображенского [1910–1918] слово не упоминается), но замечательна языковая интуиция, подсказавшая это сближение.
Если читатель настроен на тоску по мировой культуре, его внимание, скорее всего, не остановит эта непритязательная ситуация, к тому же длящаяся лишь мгновение: тут же набегает новый образ, и недоосмысленная строка остается в восприятии смысловой полу-лакуной, одним из неартикулированных эмоциональных пятен, представляющихся непременным фоном пастернаковского лирического стиля. Между тем, стих являет ослепительный в его полноте момент контакта с осязаемой, «прозаической» действительностью. Это и есть корень той простоты, «неслыханная» абсолютность которой труднее любой сложности.
Рассмотрим под этим углом зрения еще один, почти наугад выбранный пример:
(«Мефистофель»)
Любопытный эпизод, связанный с этими стихами, произошел на заседании пленума Союза советских писателей в феврале 1937 года, посвященном столетию смерти Пушкина. В своем выступлении (опубликованном затем в «Литературной газете») Д. Алтгаузен процитировал строки «Велось у всех» и т. д., заметив, что эти стихи «с точки зрения пушкинской ясности и простоты, с точки зрения здравого смысла, есть не что иное, как самый настоящий сумасшедший, клинический бред»[19].
Смеяться над этим официальным негодованием легко и приятно; смех только добавляет к эстетическому удовольствию от брызжущей энергии пастернаковского стиха. Но так ли далеко ушло наше восхищение от нелепого критического приговора? Скажу не обинуясь — этими стихами я восхищался и «знал назубок» задолго до того, как начал понимать или даже задумываться, в чем, собственно, смысл частиц, несомых этим образным вихрем.
Попытаемся, однако, разобраться в логике этого диагностированного критиком клинического безумия. Приятели беззаботно отправляются за город, забыв про дождь, который «ожидается к обеду». Важный посетитель, которого всякий стремится залучить к обеду, чтобы «подать» гостям (вспомним, как Анна Павловна Шерер «подавала» особенно интересных гостей, как редкостные блюда, в начальной сцене «Войны и Мира»), обещался быть «хотя бы» к третьему блюду. Именно с такой формулой приглашения: ‘приходите хотя бы к десерту’, — обращаются к гостю, отговаривающемуся занятостью. А «между тем» разражается скандал: явившись к Фаусту и Мефистофелю, гость их не застает и попадает в дом через окна спален на втором этаже, по счастью оставленные открытыми; именно так, в таких типовых выражениях, рассказывают о подобных происшествиях: ‘…пришлось ломиться в окна спален’.
Упоминание раскрытого окна дает движению образов несколько иное направление, соскальзывая в другую, но столь же укорененную в повседневном быту ситуацию: хозяева ушли, позабыв затворить окна, «меж тем» начался ливень, комнаты залило. Ворвавшийся вихрь (он распахивает окна со стуком, буквально «вламывается») взметает залежи пыли поверх комодов; миниатюрные смерчи пыли бешено вращаются над комодами, как велосипедные колеса. Позволю себе предположить, что в обиходе начала века, как и в нынешние времена, наилучшим местом для хранения велосипеда, чтобы не занимать им пространство комнаты, было на шкафу или комоде. Сверхъестественная скорость бешеной скачки. По-видимому, Фауст с Мефистофелем «высыпают» за город по-современному, на велосипедах (отсюда невероятная скорость их бешеных «коней»), память о которых хранит пыль на комодах. Условный образ средневекового Лейпцига оживляется, преображаясь в университетский немецкий город начала века. В представлении возникает картина жизни двух приятелей на студенческую ногу — их жилище со случайной мебелью, всеми этими столетними «комодами», поверх которых небрежно наброшены велосипеды, бешеная гонка вместо чинной воскресной экскурсии за город и вызывающая беззаботность по отношению к тому, как повелось «у всех», то есть к бюргерским правилам хорошего тона. Во всем образном строе восьмистишия нет ни одной детали, которая не апеллировала бы к рутине быта с предельной прямотой и непосредственностью.
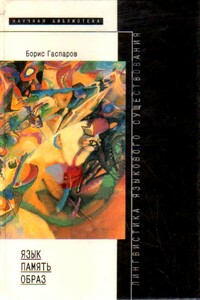
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.