Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [3]
Вообще, в отношении к Пастернаку представляется уместным говорить о «поэзии» в том смысле, который имел в виду Фридрих Шлегель в своем знаменитом определении «романтической поэзии», то есть как о всяком феномене свободного творчества (греч. póiesis), в отличие от собственно «стихов» как частного — и если следовать высказываниям Пастернака, не главного и относительно менее ценного — его проявления. Для Шлегеля то, что делает то или иное явление феноменом романтической поэзии, — это не его жанр или риторическая фактура, но присутствие рефлексии, ищущей выразить себя в словесном творчестве. Романтическая поэзия — это духовная необходимость, движимая сознанием того, что ничто не может ее заменить, потому что существуют ценности, духовное освоение которых не может осуществиться никаким другим способом: ни философией, ни наукой, ни моралью, ни религией. (К вопросу о том, что Пастернак взял у Шлегеля, а что решительно оставил позади — и как ему в этом помогли Кант и неокантианство, — нам еще предстоит обратиться.)
Работа над этой книгой мотивировалась стремлением автора взглянуть на феномен Пастернака с точки зрения духовного поиска как мотивирующей, более того, формообразующей силы его творчества. Я сознаю опасность при таком подходе соскользнуть в произвольное «философствование» по поводу литературных произведений; удастся ли этой опасности избежать — судить читателю. Но необходимость разобраться в том, «что» Пастернак хочет высказать, — и разобраться в том, в полной мере учитывая его глубокую вовлеченность в сферы философии и музыки, — представляется мне необходимым условием для понимания того, «как» он это делает, то есть характера его поэтических мотивов и их эволюции. Позволю себе в заключение наметить некоторые особенно характерные проблемы, в которых попытка прорваться поверх форм, предлагаемых аналитическим арсеналом поэтики, может оказаться полезной, в конечном счете, для понимания самой этой поэтики.
Одна из таких проблем связана с эволюцией стиля Пастернака — его знаменитым движением к «неслыханной простоте», им самим многократно и декларированном и действительно вполне реализовавшемся в поздних произведениях — до степени, способной вызвать впечатление если не прямого эстетического снижения, то по крайней мере стилевой редукции. Я не говорю здесь об эстетической оценке того или иного из поздних произведений — она сильно расходится у разных критиков (хотя сами эти расхождения показательны на фоне повсеместного энтузиазма по отношению к автору «Сестры моей — жизни»). Но трудно отрицать, что лирика второй половины 1910-х годов, равно как и ранняя проза, с ее отчетливыми чертами «прозы поэта», занимают положение эпицентра, которому не только достается львиная доля внимания, но который открыто или молчаливо признается точкой отсчета при суждении о творчестве Пастернака в целом. В этой перспективе творческое развитие Пастернака предстает как процесс вычитания. Иначе и быть не может, если посмотреть на эволюцию к простоте как на явление поэтики. Даже если не считать, что поздний Пастернак пишет «хуже», представляется очевидным, что он пишет «проще»; а это означает, что мы недосчитываемся многих увлекательных и ярко оригинальных черт его раннего поэтического языка — или находим лишь их редуцированный, разреженный, замедленный отголосок.
Любопытен в этой связи один феномен, стоящий особняком в общей картине эволюции пастернаковского стиля. И оценка лирики Пастернака после 1930 года, так сказать, «на твердую четверку» (если воспользоваться знаменитым определением его поведения в эти годы), и отношение к «Доктору Живаго», точнее его повествовательной части, как к «слабому гениальному роману», по выражению А. Д. Синявского[13], отступают перед повсеместным признанием «Стихотворений Юрия Живаго» как одной из вершин пастернаковского поэтического творчества. Всякое подозрение в редуктивном опрощении отступает перед лицом этих стихов, сочетающих классически отточенную форму с высокой символической значимостью. Оказывается, «поздний Пастернак» был способен к простоте без малейшей примеси популистской банальности или повествовательной наивности. При этом упускается из виду простейший факт — то, что эти стихи Пастернаку, собственно, «не принадлежат»; их «автором» является Юрий Живаго, человек, ранняя духовная биография которого имеет много общего с автором романа, но судьба которого решительно расходится с судьбой Пастернака в 1920-е годы. Живаго — человек Серебряного века, и его стихи несут явственную печать духовных исканий, душевного склада и стилистики этой эпохи. В этом смысле «Стихотворения Юрия Живаго» возвращают нас к истокам творческого пути Пастернака — к творческому самосознанию и эстетическому языку Серебряного века.
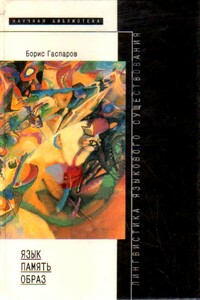
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
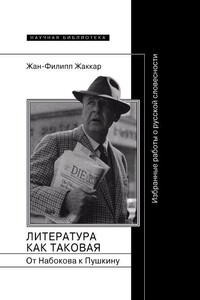
«Литературой как таковой» швейцарский славист Ж.-Ф. Жаккар называет ту, которая ведет увлекательную и тонкую игру с читателем, самой собой и иными литературными явлениями. Эта литература говорит прежде всего о себе. Авторефлексия и автономность художественного мира — та энергия сопротивления, благодаря которой русской литературе удалось сохранить «свободное слово» в самые разные эпохи отечественной истории. С этой точки зрения в книге рассматриваются произведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, В. В. Набокова, Д. И. Хармса, Н. Р. Эрдмана, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.