Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [14]
Выход находится в поведении, по всей видимости совершенно неправильном и до смешного непрестижном. Здесь опять трудно удержаться от аналогии с русской волшебной сказкой, герою которой, в силу своего рода придурковатости, удается выйти — самым наивным и отчасти жульническим образом — из роковых испытаний, погубивших многих более сильных предшественников. Ключ к метафизическому успеху пастернаковского субъекта в том, что он, казалось бы прилежно следуя по определенной ему дороге, умудряется ее «потерять», сбившись куда-то в сторону необъяснимым, даже нелепым образом; и делает это как бы непроизвольно, по неспособности действовать как положено, — неспособности, за чисто отрицательный характер которой он, однако, крепко держится, не позволяя ей кристаллизоваться в преднамеренную позицию (романтического) вызова.
В применении к богатствам познаваемого мира, которыми одаряет гостеприимство науки, эта спасительно-оплошная уклончивость проявляет себя в том, что гость, в явное нарушение норм респектабельного поведения, подарки забрал, но сам не явился:
…где мы ведем себя ненаучно; где нет гостей, а лишь гостеприимство (LJ II: 31).
Это сказано еще до поездки в Марбург (в московских конспектах по Канту). Тем более интересен тот символический смысл, который эта запись придает эпизоду неприхода на обед к Когену, чье приглашение воспринималось как важный знак признания и отличия. В автобиографии весь эпизод представал сплошным хаосом иррациональных импульсивностей: сначала визит в Марбург сестер Высоцких, кульминацией которого явилось драматическое «предложенье», сделанное старшей сестре, и ее (более чем предсказуемый) отказ[68]; затем, провожая сестер на вокзал, субъект «Охранной грамоты» опаздывает соскочить из тронувшегося поезда и кончает тем, что доезжает с ними до Берлина; едва вернувшись, он получает одновременно два извещения — одно от «петербургской двоюродной сестры», приглашающей приехать повидаться с ней во Франкфурт, другое от Когена с приглашением на обед, и, разумеется, немедленно вновь срывается с места, пренебрегая всяким приличием (только для того, как оказалось, чтобы встретить у Фрейденберг резкий, даже враждебный прием, надолго прервавший их интенсивное общение, — но об этом в автобиографии ни слова)[69]. В действительности встреча с Фрейденберг предшествовала не только приглашению на обед, но и выступлению в семинаре у Когена; свой доклад, следствием которого и явилось приглашение, Пастернак успел сделать в самый день возвращения из Франкфурта. Обед же он пропустил не по небрежению, а потому, что открытка с приглашением пришла во время его очередной поездки — на этот раз в Киссинген, на празднование дня рождения Иды, где присутствовала также Жозефина, в это время, несмотря на молодость (ей было 12 лет), видимо, самый близкий Пастернаку человек в семье. Когда в самый день возвращения он случайно «столкнулся» с Когеном на улице и должен был извиняться за свой неприход, ситуация — по крайней мере, в ее внешнем измерении, — не была такой мучительно неловкой, какой она предстает в автобиографии.
В рассказе о своей жизни Пастернак спрессовывает и перетасовывает действительные события, вследствие чего они предстают цепочкой поистине сверхъестественных роковых совпадений, предвещающих перипетии «Доктора Живаго». Однако за почти смехотворной мелодраматичностью в передаче внешних ситуаций встает идеальный сюжет их внутреннего переживания субъектом рассказа, и достоверность, и полная осмысленность которого не вызывает сомнений. Раз за разом, на протяжении короткого времени (и как раз тогда, когда начинало вырисовываться его возможное академическое будущее), Пастернак срывается с места со стремительностью, напоминающей побег; причем — и это важно заметить — каждый раз им движет стремление вступить в непосредственный контакт с одной из тех, в ком для него воплощается «женственное» начало. (К вопросу о том, почему эти контакты были Пастернаку так необходимы именно в тот момент, и какую роль они сыграли в определении его духовной «судьбы», мы вернемся в дальнейшем.) При внешней иррациональности, многократно усугубленной в автобиографическом рассказе, поведение Пастернака — и реальное, и каким оно ему представлялось, — имело провиденциальный смысл в качестве символического жеста не столько отказа, сколько уклонения от «приглашения» к научной карьере[70]. Вот так же четверть века спустя, когда на него примеривалась роль, так сказать, заместителя Горького по поэтической части в новом Союзе, Пастернак ответит не твердой позицией принятия либо непринятия, но импульсивным выпаданием из роли, при котором поступки, иногда головокружительной смелости, оставляли возможность их интерпретировать в качестве смехотворного неумения себя вести («юродство» — слово, прочно прилепившееся к Пастернаку в официальном литературном быте второй половины 1930-х годов) и им скрадывались[71]. Да и история с публикацией-непубликацией «Доктора Живаго» в СССР и заграницей имела некоторые аналогичные черты.
Гостеприимство Когена в буквальном смысле осталось «гостеприимством без гостей». Вместо того чтобы занять назначенное ему место на пиру философской Валгаллы, гость скандальным образом умудряется туда не попасть, однако не без того, чтобы предварительно забрать «подарки» гостеприимного хозяина — множество освоенных чистым разумом предметов. То, что на самом деле и являлось искомым результатом, осознается не как достижение, а как следствие нелепого поведения и роковых случайностей. Философский субъект Пастернака — а вслед за ним его лирический герой — не только не вменяет совершенный метафизический подвиг себе в заслугу, но напротив, поражен смущением перед лицом своей оплошности. Если верить его признаниям, он только и делает, что сбивается с дороги: «Не тот это город, и полночь не та» («Метель»). Тщетно читает и перечитывает он расписание Камышинской ветки: подобно Святому писанию, его грандиозность не эмпирична, а трансцендентна; любой указанный полустанок обречен оказываться «не тем». А «тот» пункт назначения обнаруживает себя, когда поезд останавливается на пустом месте, вопреки расписанию: так в начальной сцене «Охранной грамоты» скрещиваются пути автора, Рильке и Толстого; так на судьбу Живаго ложится тень судьбы его отца.
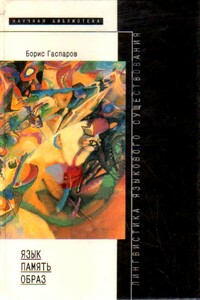
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.
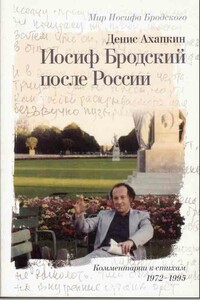
Мир Иосифа Бродского — мир обширный, таинственный и нелегко постижимый. Книга Дениса Ахапкина, одного из ведущих исследователей творчества Нобелевского лауреата, призвана помочь заинтересованному читателю проникнуть в глубины поэзии Бродского периода эмиграции, расшифровать реминисценции и намеки.Книга "Иосиф Бродский после России" может стать путеводителем по многим стихотворениям поэта, которые трудно, а иногда невозможно понять без специального комментария.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.