Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [12]
Однако это надежно замаскированное признание о травме, вынесенной из академического послушания, которая всю жизнь потом будет мучить, не позволяя «долго сидеть» на месте, раскрывает лишь одну сторону дела. Лейтмотив «хромоты» в контексте творческой биографии Пастернака невозможно оценить вне библейской аллюзии единоборства Иакова с ангелом[56]. Эта сторона ситуации заявила о себе еще позднее, в переводе двух стихотворений Рильке из «Книги образов»[57], который Пастернак включил — с явным намерением контрабандой доставить хоть крупицу Рильке послевоенному советскому читателю — во вторую автобиографию (1956)[58]:
(ЛП: «Девятисотые годы», 9)
Перевод, прекрасно передавая дух оригинала[59], отступает от него в ряде характерных деталей. Его заглавие у Пастернака, «Созерцание» — абстрактное и безличное, в контрасте с субъектно ориентированным заголовком у Рильке («Der Schauende»: ‘глядящий, наблюдающий’; Rilke 1966: 215), — своим напоминанием об одном из ключевых терминов метафизики (Anschauung: ‘воззрение’, ‘созерцание’) задает философскую тональность стихотворения; перед нами «созерцание» без «смотрящего», подобное когеновскому cogito без sum. Философский фон перевода усиливается тем обстоятельством, что его начальные слова: «Деревья складками коры Мне говорят об ураганах» — отсылают к лекциям Флоренского начала 1920-х годов во ВХУТЕМАСе (месте, где прошло детство Пастернака)[60]. Имея в виду революционизацию понятия пространства в современной науке и авангардном искусстве, Флоренский утверждал: «Можно говорить, что самые вещи — не что иное, как „складки“ или „морщины“ пространства, места особых искривлений его»[61]. ‘Морщины’ у Пастернака тоже не заставляют себя ждать: они появляются в переводе второго стихотворения Рильке («За книгой» — «Der Lesende»; Rilke 1966: 213), и тоже в связи с процессом созерцания: «Я вглядывался в строчки, как в морщины Задумчивости…». (У Рильке в соответствующем месте более нейтральное Miene ‘выражение лица’; слову ‘складки’ в оригинале вообще нет соответствия[62].)
В интерпретации Пастернака предмет стихотворений Рильке, не теряя конкретной непосредственности впечатления, преобразуется из лирического созерцания в метафизическое. «Складки» и «морщины» предметного мира предстают не эмпирическому, но мыслительному зрению, вооруженному концепцией n-мерного пространства и теорией относительности. Важно однако, что, в противовес всепобеждающему концептуализму Флоренского (и Когена), предрешенным исходом этой «схватки» познающего субъекта с действительностью становится его поражение, — которое, однако, и есть истинная победа. Подразумеваемое увечье, с которым выходят из такой схватки, знаменует собой «расцвет сил», укороченная нога — издержку «роста» навстречу трансцендентному.
На подступах к своему поэтическому миру Пастернак испытал три встречи с «высшим началом», олицетворениями которого явились для него Скрябин, Коген и Маяковский. В каждом из этих случаев Пастернак оказывается лицом к лицу с мессианской личностью, харизматически диктующей миру свою волю, чье недосягаемое превосходство признается им с готовностью и восторгом. Каждый раз он напрягает все силы, кажется, забывая самого себя, в стремлении следовать — безнадежно отставая — за своим кумиром, как будто не сознавая того, что коренная причина его неспособности идти в ногу с гигантом заключается в глубоком внутреннем несходстве, даже отчуждении. И каждый раз дело заканчивается по-толстовски драматическим «уходом»: с болью, чувством вины, сознанием невосполнимой потери, но и с безошибочной решимостью «Апеллесовой черты», делающей пережитый опыт фактом прошлого.
Любопытным образом, во всех трех случаях внешним поводом для «ухода» служил момент, когда кумир внезапно обнаруживал в себе нечто «человеческое», более того, выказывал готовность признать в робком последователе партнера. Таков знаменитый эпизод в «Охранной грамоте» с обнаружившимся отсутствием абсолютного слуха у Скрябина — обнаружившимся в тот самый момент, когда тот благословил ученика на музыкальное призвание; таков же не менее курьезный эпизод с приглашением на обед к Когену после успешного выступления Пастернака в семинаре; и наконец, резкий разрыв с Маяковским по, казалось бы, мелкому поводу, после того как последний, не спросясь, включил Пастернака в список авторов на обложке «Нового ЛЕФа»[63]. Дело выглядит так, как будто Пастернак каждый раз буквально обращается в бегство (совершая поступки, с точки зрения повседневной логики, мягко говоря, не вполне разумные) при малейшем намеке на то, что над трансцендентной пропастью, отделяющей его от сверхчеловеческого бытия его кумира, может быть переброшен мост.
Если сам образ трансцендентной «встречи» вполне встраивался в категории символистского жизнетворчества, то неизменно следующий за ней разрыв резко уклоняется из этой модели, знаменуя собой, в самом общем смысле, «уход» из духовного мира начала века, с его ощущением непосредственной близости, почти прикосновенности к транс-эмпирическому, — уход-поражение, даже травмирующее падение, напоминающее о непобедимой силе тяжести экзистенциального мира.
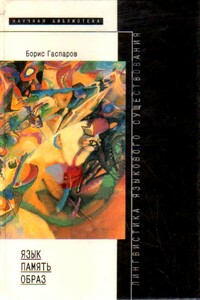
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.