Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [13]
О Скрябине и Маяковском, точнее, о тех аспектах творческого мира Пастернака, которым позволила образно оформиться встреча-схватка с ними, речь пойдет в последующих частях книги. Сейчас же обратимся к той роли, которую сыграл в его поэтическом самосознании рационалистический радикализм Когена.
2. Гостеприимство без гостей
Пастернак усвоил как непреложность урок, преподанный критикой чистого разума: ложная свобода «натурализма и утилитаризма», создавая иллюзию непосредственного контакта с действительностью, на деле оборачивается «некритическим кругом», из которого природа молчаливо ускользает — «возвращается в себя» (LJ II: 31). Парадоксальным образом, путь к действительности лежит через посредство философской рефлексии, и обнаруживающей всю сложность прыжка в реальность, и дающей ему исходную опору. Возможность постижения мира есть «дар» чистой мысли индивидуальному сознанию, открывающий ему, подобно пропповскому дарителю в волшебной сказке, путь к заповедной предметности.
Мы узнали гостеприимство науки; от нее уходили предметами; мы разобрали эти предметы, и поняли, чем одаряет мысль. (LJ II: 30)
У слова «разобрали» обнаруживается двойной ассоциативный вектор. С одной стороны, «разобрали», как разбирают логическую проблему. Но с другой, стилистика этого пассажа наводит на мысль о детях, торопливо разбирающих подарки под елкой. Субъект научного «гостеприимства» уподоблен ребенку, заглядывавшемуся на недоступное множество вещей за прозрачной, но непроницаемой витриной, и вдруг получившему их все в подарок, в аккуратно униформной мыслительной упаковке. Обретение мира предметов окрашивается сказочной праздничностью рождественского сочельника: «Все елки на свете, все сны детворы», как будет сказано много лет спустя («Рождественская звезда»; ДЖ 17: 18)[64].
Однако радость обретенной действительности оказывается неполной. Вмещающее в себя весь мир духовное пространство, двери в которое «гостеприимно» открывает наука, герметично. В ограниченном априорными категориями пространстве чистого разума мыслительные проекции предметов теснятся, точно товары в скобяной лавке: «Пусть простят грубое выражение, но жизнь набита мыслью, жизнь мыслится в той мере, в какой мы говорим о предметах, даже о мебели, о скобяных товарах» (LJ II: 30).
Соответственно, и априорно заданное время обнаруживает свою герметическую стесненность: оно заперто в настоящем. Непредсказуемость будущего ему неведома; заключенные в рамки категориального временного бытия предметы — это предметы без «судьбы»:
<…> будущее, счастье, судьба <…> вот чего не дала мысль тем отпущенным предметам. Но разве будущее не время? Конечно, нет. <…> Будущее, как необходимый элемент мысли, попадается нам именно там, где мы переступаем предел конститутивн<ого>. (LJ II: 31)[65]
С удивительной проницательностью эту заряженность будущим в духовном облике Пастернака сумел передать Шкловский в рассказе о визите Пастернака в Берлин. В восприятии Шкловского, это свойство Пастернака, которое он назвал «тягой истории», являло резкий контраст с лишенным «судьбы» миром обитателей «русского Берлина», теснящихся в нем, как в вокзальном зале ожидания. Метафоры Шкловского в этом эпизоде настолько точно вписываются в образный строй рассуждений самого Пастернака о «будущем» и «судьбе», что позволяют предположить в них след их непосредственного общения:
Этот человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки Дома печати, тягу истории <…> Мы беженцы, — нет, мы не беженцы, мы выбеженцы, а сейчас сидельцы. <…> Никуда не едет русский Берлин. У него нет судьбы. Никакой тяги[66].
В образной репрезентации Пастернака мир чистой мысли подобен вагнеровской Валгалле[67]. Герметизм Валгаллы делает неотвратимой логическую цепочку причин и следствий, ведущих к ее гибели. У Валгаллы и ее обитателей нет «будущего»: возвысившись над миром, они потеряли возможность испытать непредвиденное. Стерильную пустоту даров, обретаемых ценой отказа от «будущего, счастья, судьбы», глубоко чувствует вагнеровский Зигмунд, с презрением отвергающий «чопорные блаженства Валгаллы» (Walhalls spröde Wonnen), которые ему сулит Брюнгильда — «холодное дитя». Кажется, что появление Зигфрида, победоносно разрубающего узел логической предопределенности мечом своей свободной, не знающей никаких пределов воли, способно отклонить мир от «предвиденного распорядка действий». Зигфрид разбивает копье Вотана, на котором записаны руны «договоров» — эта априорная основа созданного Вотаном миропорядка, — переступает трансцендентную преграду пламени и освобождает Брюнгильду для новой жизни в любви. В момент своего триумфа Зигфрид обретает способность понимать язык птиц, как будто знаменуя обретенное идеальное единение богов, людей и природы. Однако сама безграничность воли Зигфрида оказывается губительной: ни в чем не встречая сопротивления, она впадает в разрушительную произвольность. В хаосе безумно нагромождаемых «подвигов» Зигфрид теряет себя, забывая и свою любовь к Брюнгильде, и язык птиц, тщетно пытающихся его предостеречь.
Пастернак глубоко чувствует трагизм этой метафизической дилеммы. И Вотан, с его отчаянным поиском выхода из тупика логического детерминизма, в который он сам себя загнал созданием идеальной утопии Валгаллы; и Зигмунд, с его заведомо безнадежным отрицанием; и наконец, Зигфрид, ставший жертвой беспрепятственности своих побед, — всех их в конце ждет гибель, как сказочных богатырей, выбирающих разные, но равно губительные дороги. Ни одному из них не удается отыскать путь к миру, открытому для будущего не только в качестве логической проекции настоящего, — путь непредузнанной «судьбы» и неожидаемого «счастья».
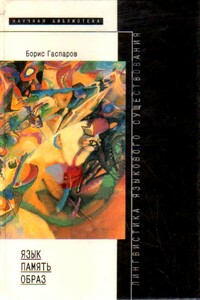
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.
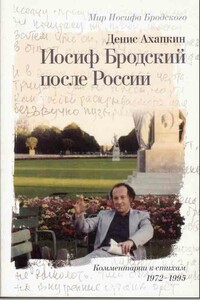
Мир Иосифа Бродского — мир обширный, таинственный и нелегко постижимый. Книга Дениса Ахапкина, одного из ведущих исследователей творчества Нобелевского лауреата, призвана помочь заинтересованному читателю проникнуть в глубины поэзии Бродского периода эмиграции, расшифровать реминисценции и намеки.Книга "Иосиф Бродский после России" может стать путеводителем по многим стихотворениям поэта, которые трудно, а иногда невозможно понять без специального комментария.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.