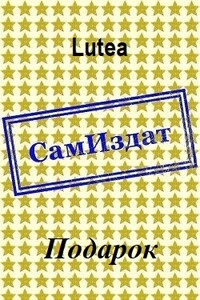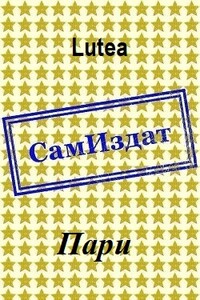— Боишься? — боец сделал шаг вперёд.
Вот мы и пришли к логическому концу: скажу, что не боюсь, так вызовет на бой, а если отвечу, что боюсь, то стану опозоренным в его глазах, и, наверняка, в глазах дружинников. И что ещё хуже — в лице Егорки.
Я вдруг увидел в этом мальчишке себя…
Вон мой наставник Гуннар, дружинники — Эгнер, Юхан, Веум, Эйольф… Я их всех вспомнил. И вспомнил, как стоял среди них, и они казались мне просто великанами. Сильными, смелыми парнями. Воинами без страха и упрёка.
Я помнил, как меня учил Гуннар. Он ведь тоже говорил, что настоящий воин не имеет привязанностей. И я его слушал, как вот этот вот Егорка, развесив уши, внимая каждому слову… Каждому…
Это было так неожиданно, что я, право, растерялся.
И вдруг подумалось: если я действительно тот самый Сверр, то, сколько же мне лет? Сто, как минимум. А то и больше.
Сто лет! С ума сойти!
Если Бажена всё-таки права, то выживать мне помогает кровь единорога. Святая кровь… Вот только я не святой. Совсем не святой. И как это всё совмещается во мне?
Кто и зачем сделал мне этот дар? Какова цель? И какова моя судьба?
Перед глазами встал образ Жуги Исаева с фигуркой в руке.
— Мы называем их «масками», — сказал тогда он, показывая мне её. — Она живет и действует вне установленных правил…
Зачем я такой нужен? И кому?..
— Боишься? — повторил свой вопрос Холодок.
Моя заминка, созданная размышлениями, навела всех на мысль, что я действительно опасаюсь прямого столкновения.
А я вдруг подумал, что изменился. Буквально и года не прошло, а я изменился. Что-то во мне делало меня же мягче, человечнее. Уж не кровь ли единорога тут причастна?
На плечо легла тяжёлая рука Тура.
— Не стоит ерепениться, друзья. К добру это не приведёт… То, что ты, Холодок, хорош, мы все знаем. А ты, Сверр…
— Какой же он «сверр»? — не отступал Холодок. — Вы все думаете, что это его настоящее имя? Да его зовут каким-нибудь… каким-нибудь Лаптем Мужицким. А Сверром прозвался, чтобы перед нами покрасоваться. Это я «сверр»! Настоящий…
Я поднялся. Те двое дружинников, которые тогда были у Стержнева, и которых я хорошенько приложил, усмехались в усы. Они точно знали мне цену.
— Ты хочешь меня обидеть? — спокойным голосом спросил я.
— Какой ты догадливый!
— Ты назвал меня Лаптем Мужицким.
— Да, так и есть. И что?
— Судя по всему, ты ненавидишь крестьян.
— А чего их любить? Смерды! Слабаки и трусы. Вот я…
— Э-э! — вдруг поднялся рядом со мной Тур. — Я, между прочим, из смердов.
Сотник не выглядел сердитым. Нахмурился он лишь по привычке. Его зрачки расширились, и память выдала далёкие воспоминания, о которых он давным-давно позабыл.
Тур вспомнил мать, отца, пятерых его сестёр и братьев. Вспомнил, как очень тяжело жилось одной зимой. Холода тогда пришли очень рано, где-то в середине осени, не дав последней возможности собрать до конца и без того скудный урожай. К всему прочему на рыбацком промысле за всё лето особых деньжат отцу не заплатили. И семье пришлось зарезать корову…
Туру тогда было двенадцать. Худой. Высокий. Волосы цвета выгоревшей соломы, всклокоченные, торчащие во все стороны.
Ночью от голода сводило живот. И хотя родители отдавали свою порцию, утверждая, что им не хочется, Тур помнил тот огонёк в глазах матери, глядевшей на краюху ржаного хлеба, которую жадно делили между собой дети.
Той ночью он решился. Поутру собрал свои пожитки… Да какие там пожитки: запасная рубаха, дедов охотничий нож, тулуп из шкуры оленя, беличья шапка — вот, пожалуй, и всё.
Отец уже был во дворе. Он возился по хозяйству, когда увидел выходящего из дверей сына.
Встретились глазами. Так постояли несколько мгновений.
— Прощай, тятя, — проговорил Тур.
— Мамка…
— Не говори ей сейчас, — попросил Тур. — Потом.
Отец подошёл и крепко обнял сына.
— Куда ж ты надумал? — печально спросил он.
— Доберусь до столицы. Буду проситься в Ратный Двор к Защитникам.
Его голос уже начал «ломаться» и оттого казался смешным.
— Молод же ещё…
— Ничего. Авось выкручусь.
Что-то горячее обожгло щеку. Тур рефлекторно дотронулся до неё и ощутил на пальцах влагу.
Слеза была одна.
— Мороз, вот очи и слезятся, — пояснил отец, и Тур понимающе кивнул (взрослый же, чего ж не понять). Да и у сиверийцев не принято плакать.
Морозно. Пронизывающий ветер пробирался под тулуп.
Тур шёл, а в голове вдруг снова и снова всплывал материн голос, грустно поющей ту старую песню.
Вон как всегда горит лучина. Вечер. За стеной воет вьюга… Как сейчас. Снег залепляет глаза, гудит ветер, но в доме тепло.
Тур лежит на лежанке вместе с братьями да сёстрами, поглядывая на мать. Её длинная русая коса касается пола. Отец неторопливо вырезает своим ножом ложку.
И вот мать, сначала тихо-тихо, начинает подпевать:
Дорога вдаль, в медвежий край
Бежит от дома прочь.
Коль силы есть за небокрай
Идти — иди, ведь настигает ночь…
И сын ушёл. И больше уже никогда не видел никого из родных: чёрный мор унёс их всех.
И вот снова в памяти просыпается то седое воспоминание, и голос матери в ночи:
Покуда у тебя хватает сил
Шагать до скрещенья путей —
Шагай, ведь день ещё не погасил
Свой свет, медведь — не показал когтей.
Как тигр, что скитается в ночи,