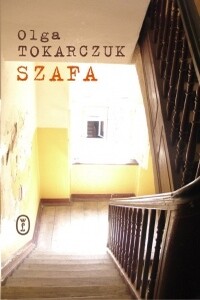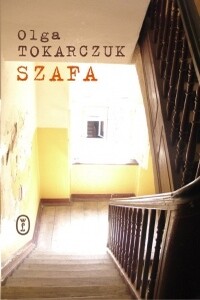Бегуны - [88]
Точка
Проезжая эти города, я уже знаю, что в одном из них мне рано или поздно придется задержаться, а может, даже поселиться. Я мысленно взвешиваю их, сравниваю и оцениваю, и всегда оказывается, что все они расположены или слишком далеко, или слишком близко.
Так что, похоже, существует некая постоянная точка, вокруг которой я вращаюсь. Вот только от чего слишком далеко и к чему слишком близко?
Сечение как метод познания
Познание слоями, каждый слой лишь в общих чертах напоминает последующий или предыдущий, как правило, это вариация, модифицированная версия, дополнение к гармонии целого, — но рассматривая их по отдельности, не соотнося с целым, этого не заметишь.
Каждый пласт — часть целого, подчиняющаяся собственным законам. Трехмерный порядок, обездвиженный и урезанный в двухмерном слое, кажется абстракцией. Можно даже подумать, что никакого целого не существует, что его никогда не было.
Сердце Шопена
Все, наверное, знают, что Шопен умер 17 октября, в два часа ночи («in small hours»[113], как гласит англоязычная версия «Википедии»). У смертного одра присутствовали несколько ближайших друзей, в частности сестра Людвика, которая самоотверженно ухаживала за Фридериком до самого конца, а также ксендз Еловицкий: потрясенный безмолвным звериным умиранием истощенного тела, бесконечной борьбой за каждый глоток воздуха, он сначала упал в обморок на лестнице, а потом — из чувства противоречия, не вполне, впрочем, осознанного, — нарисовал в своих дневниках более эстетичную версию смерти великого музыканта. В частности, ксендз писал, что последними словами Фридерика было:
«Я пребываю у источника всяческого счастья» — явная ложь, хотя, безусловно, красивая и трогательная. На самом деле, по воспоминаниям Людвики, Шопен ничего не сказал, тем более что уже несколько часов был без сознания. Единственное, что в конце концов исторгли его уста, — это струйка темной густой крови.
Теперь Людвика, усталая и замерзшая, едет в почтовом дилижансе. Они уже подъезжают к Лейпцигу. Влажная зима, с запада их догоняют тяжелые чернобрюхие тучи — наверное, вот-вот пойдет снег. Похороны состоялись много месяцев назад, но Людвику ждут еще одни, в Польше. Фридерик все время повторял, что хочет быть похоронен на родине, а поскольку хорошо знал, что умирает, старательно спланировал и свою смерть, и похороны.
Сразу после его кончины приехал муж Соланж[114]. Он появился сразу, словно заранее подготовился и, уже в пальто и ботинках, только ждал стука в дверь. Он принес кожаный саквояж с хирургическими инструментами. Сперва натер жиром безвольную ладонь умершего, аккуратно и почтительно уложил ее в деревянную ванночку и залил гипсом. Потом с помощью Людвики снял посмертную маску — пока черты не слишком застыли, пока не проникла в них смерть, которая все лица лепит по одному образцу.
Потихоньку, без лишнего шума было выполнено и другое желание Фридерика. На второй день после смерти рекомендованный графиней Потоцкой[115] медик велел обнажить тело до пояса, затем, разложив вокруг грудной клетки простыни, ловким движением острого скальпеля открыл ее. Присутствовавшей при этом Людвике показалось, что тело вздрогнуло и словно бы даже вздохнуло. Когда простыни окрасились почти черными сгустками крови, она отвернулась к стене.
Медик ополоснул сердце в тазу, и Людвика удивилась, какое оно большое, бесформенное и бесцветное. Сердце брата с трудом умещалось в банку со спиртом, и медик посоветовал заменить ее на бо́льшую. Ткань не должна сдавливаться и касаться стеклянных стенок.
Сейчас Людвика дремлет, убаюканная мерным постукиванием колес, а в дилижанс напротив нее, рядом со спутницей Людвики Анелей садится какая-то дама — посторонняя, но вроде бы знакомая, еще по Польше. В запыленном траурном платье, какие носили вдовы повстанцев, с большим крестом на груди. Лицо опухшее, потемневшее от сибирских морозов, ладони в серых прелых перчатках сжимают банку. Людвика со стоном просыпается и проверяет содержимое корзинки. Все в порядке. Она поправляет чепец, который сползает на лоб. Бранится по-французски: шея совершенно одеревенела. Анеля тоже пробуждается, раздвигает занавески. Плоский зимний пейзаж пронзительно печален. Вдали видны деревеньки, погруженные в серую влагу людские колонии. Людвике кажется, будто она движется по огромному столу — словно насекомое под внимательным взглядом какого-то монстра-энтомолога. Она вздрагивает и просит у Анели яблоко.
— Где мы? — спрашивает Людвика, выглядывая в окно.
— Осталось несколько часов, — успокаивает ее Анеля и подает спутнице прошлогоднее сморщенное яблочко.
Отпевание должно было состояться в церкви Мадлен, служба уже заказана, а пока на Вандомскую площадь шли толпы друзей и знакомых, желающих проститься с композитором. Несмотря на зашторенные окна, солнце пыталось проникнуть вовнутрь и поиграть с теплыми красками осенних цветов: фиолетовых астр и медовых хризантем. Внутри царило мерцание свечей, отчего все оттенки казались глубокими и сочными, а лицо умершего — не таким бледным, как при дневном свете.
Оказалось, что желание Фридерика — чтобы на его похоронах был исполнен «Реквием» Моцарта — трудновыполнимо. Друзьям умершего удалось, задействовав все свои связи, собрать превосходных музыкантов. Согласился выступить лучший бас Европы Луиджи Лаблаш

Ольгу Токарчук можно назвать одним из самых любимых авторов современного читателя — как элитарного, так и достаточно широкого. Новый ее роман «Последние истории» (2004) демонстрирует почерк не просто талантливой молодой писательницы, одной из главных надежд «молодой прозы 1990-х годов», но зрелого прозаика. Три женских мира, открывающиеся читателю в трех главах-повестях, объединены не столько родством героинь, сколько одной универсальной проблемой: переживанием смерти — далекой и близкой, чужой и собственной.
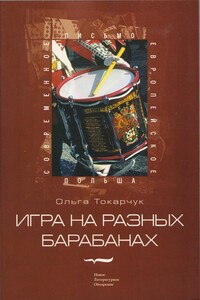
Ольга Токарчук — «звезда» современной польской литературы. Российскому читателю больше известны ее романы, однако она еще и замечательный рассказчик. Сборник ее рассказов «Игра на разных барабанах» подтверждает близость автора к направлению магического реализма в литературе. Почти колдовскими чарами писательница создает художественные миры, одновременно мистические и реальные, но неизменно содержащие мощный заряд правды.

Между реальностью и ирреальностью… Между истиной и мифом… Новое слово в славянском «магическом реализме». Новая глава в развитии жанра «концептуального романа». Сказание о деревне, в которую с октября по март НЕ ПРОНИКАЕТ СОЛНЦЕ.История о снах и яви, в которой одно непросто отличить от другого. История обычных людей, повседневно пребывающих на грани между «домом дневным» — и «домом ночным»…

Лауреат Международного Букера Ольга Токарчук коллекционирует фантазии. В нашу серую повседневность она, словно шприцем, впрыскивает необъяснимое, странное, непривычное. Мороки из прошлого и альтернативное настоящее не поддаются обычной логике. Каждая история – мини-шедевр в духе современной готики.«Диковинные истории» – собрание причудливых рассказов, где каждая история – окно в потустороннее.

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
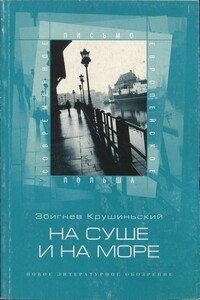
Збигнев Крушиньский обладает репутацией одного из наиболее «важных», по определению критики, писателей поколения сорокалетних.«На суше и на море» — попытка отображения реалий сегодняшней польской жизни через реалии языка. Именно таким экспериментальным методом автор пробует осмыслить перемены, произошедшие в польском обществе. В его книге десять рассказов, десять не похожих друг на друга героев и десять языковых ситуаций, отражающих различные способы мышления.

Павел Хюлле — ведущий польский прозаик среднего поколения. Блестяще владея словом и виртуозно обыгрывая материал, экспериментирует с литературными традициями. «Мерседес-Бенц. Из писем к Грабалу» своим названием заинтригует автолюбителей и поклонников чешского классика. Но не только они с удовольствием прочтут эту остроумную повесть, герой которой (дабы отвлечь внимание инструктора по вождению) плетет сеть из нескончаемых фамильных преданий на автомобильную тематику. Живые картинки из прошлого, внося ностальгическую ноту, обнажают стремление рассказчика найти связь времен.
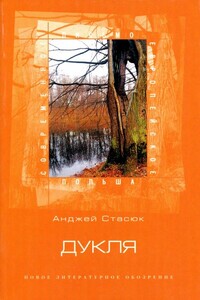
Анджей Стасюк — один из наиболее ярких авторов и, быть может, самая интригующая фигура в современной литературе Польши. Бунтарь-романтик, он бросил «злачную» столицу ради отшельнического уединения в глухой деревне.Книга «Дукля», куда включены одноименная повесть и несколько коротких зарисовок, — уникальный опыт метафизической интерпретации окружающего мира. То, о чем пишет автор, равно и его манера, может стать откровением для читателей, ждущих от литературы новых ощущений, а не только умело рассказанной истории или занимательного рассуждения.
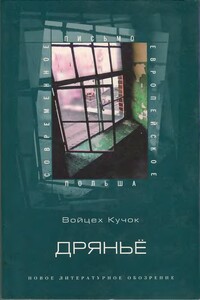
Войцех Кучок — поэт, прозаик, кинокритик, талантливый стилист и экспериментатор, самый молодой лауреат главной польской литературной премии «Нике»» (2004), полученной за роман «Дряньё» («Gnoj»).В центре произведения, названного «антибиографией» и соединившего черты мини-саги и психологического романа, — история мальчика, избиваемого и унижаемого отцом. Это роман о ненависти, насилии и любви в польской семье. Автор пытается выявить истоки бытового зла и оценить его страшное воздействие на сознание человека.