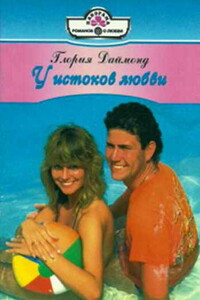У всего есть имя. У каждой твари на земле, у живого и неживого, и у самой земли, и у других, крутящихся в тёмном пустом пространстве космоса небесных тел, у всего видимого и невидимого, у всего того, что было, есть и будет когда-нибудь, у предполагаемого и воображаемого и даже у невообразимого есть имя. Есть, конечно, есть, только пока до него доберёшься, пока проступит оно через туман неузнанного, пока дотянешься через бездну непознанного…
Что за наказание такое выпало человеку: всё описать, каталогизировать, отнести туда или сюда, соотнести, сопоставить, выделить и пришпилить табличку названия. Назвать как-то. То есть, человек заранее предполагает, что если ему удалось что-то назвать, то оно — это названное им, — откликнется на зов.
Вот собаки, например, у них тоже есть свой язык, язык запахов и в одной из умных книжек, которой он не запомнил, Авруцкому довелось прочесть, что собаки различают до 25000 запахов и это язык, которым мир разговаривает с собакой.
— Стоп, стоп, — оборвал себя тогда Авруцкий, — что же каждая собака уже рождается с такими способностями к своему индивидуальному языку? Ведь ни передать его, ни обучить кого-нибудь этому языку она никогда не сможет. Получается, что сколько на свете собак, столько и языков. И переживание каждого акта познания для каждой собаки неповторимо, уникально.
Вот и мистическое озарение у людей также неповторимо, индивидуально и по сути своей непередаваемо. Что-то подобное, наверное, чувствуют волки, когда воют на луну, какую-то потребность выразить то невыразимое, что носят они в себе и с чем уйдут когда-нибудь в ночь, в беспамятство, так и не поведав об этом миру.
Авруцкому тоже хотелось выть по ночам, выть от невозможности высказать то, что мучило его, от того, что приоткрылось ему.
Что это было? Видения, мучившие его по ночам, было невозможно описать. Вначале это была тьма, абсолютная, всепоглощающая, в которой не было ни проблеска света, ни намёка на звук, ничего, что можно было бы потрогать, обонять, ощутить хоть как-нибудь. Не было ничего, даже собственного тела не чувствовал Авруцкий, да и нечего было чувствовать, поскольку и тела не было, и самого Авруцкого тоже не было, но что-то ведь было, что-то, то ли сжавшееся до точки, то ли разлитое в этой тьме и само ставшее тьмою существовало, если осознавало эту тьму и боялось чего-то ещё более ужасного, хотя, казалось бы, чего ещё можно было бояться, когда это уже было небытием. Или предбытием, и Авруцкий боялся того, что может произойти.
И вот, однажды, это случилось. Тьма не рассеялась, нет, но в ней начали сгущаться какие-то ещё более тёмные участки, они уплотнялись, двигались, приобретали какие-то контуры, объёмы; пространство начинало сжиматься, растягиваться, пульсировать и Авруцкий чувствовал, что он и есть это пространство, тёмные объёмы сталкивались между собой, начинали кружиться, движение ускорялось, образовалась какая-то гигантская воронка, всасывающая тьму, и вдруг вспыхнул свет, страшный, обжигающий, беспощадный, невыносимый свет и вот тогда-то Авруцкий и завыл, правда, как выяснилось позже, завыл беззвучно.
Ему захотелось спрятаться, стать невидимым, нырнуть в спасительную тьму, но тьма рассеялась, и спасения не было. И в этом беспощадном свете Авруцкий увидел себя и других и ужаснулся.
— И это называют спасением? — успел подумать он, теряя сознание. — Неужели, это?
Никто ничего бы не заметил, настолько кратковременным был обморок, но Авруцкий онемел. Онемел внезапно и непоправимо. Катастрофически непоправимо. Ещё мгновение назад он казался счастливым, уверенным в себе мужчиной средних лет с намечающимся брюшком и розовой лысиной, окаймлённой венчиком седых волос, он был центром притяжения всех собравшихся за овальным, покрытым белой камчатной скатертью, со вкусом сервированным столом.
И повод для встречи был вполне приятным, день рождения Авруцкого. Здесь собрались родственники, друзья, знакомые, полузнакомые и совсем случайные люди, жившие поблизости и приехавшие издалека, но всех объединяло одно, — всем собравшимся Авруцкий был симпатичен. А это уже чрезвычайная и даже подозрительная редкость во все времена, а уж в наше-то особенно. Но мало этого, почти никто из гостей, кроме случайно забредших в этот двор, не завидовал Авруцкому, не то, что нечему было завидовать, ещё как было: и талант, и успех, и деньги, и женщины, — и всё-таки не завидовали, было что-то такое, что гасило это естественное чувство в самом зародыше, не давая ему набрать силу, и не из-за того, что Авруцкий был доброжелателен, внимателен, обаятелен, щедр, — обилие таких качеств обычно только усугубляет зависть, доводя её до ненависти. И всё-таки не завидовали, а спроси, почему? — вряд ли кто сможет ответить, но чувствовалось, что во всём этом благополучии, в сердцевине его было что-то зыбкое, колеблющееся, неустойчивое, то ли болезнь неизлечимая, то ли ещё что-то такое, чего лучше бы вообще не касаться. Отсвет какой-то тревожной тайны иногда вспыхивал в глубине его светло-коричневых с прозеленью глаз.
Ещё в ранней юности он понял, а вернее, нутром, до самой сердцевины почувствовал, ощутил то, о чём не задумывались его сверстники. Он внимательно всматривался в своих друзей и знакомых, и не мог понять, как им удаётся жить, избегая того знания, которое едва не раздавило его. Жизнь с сознанием неизбежности своей индивидуальной смерти казалась ему невозможной. Бесценный дар, удивительно хрупкий, который мог быть отнят в любой момент, и дан-то был непрошено, и отнят может быть по самому жестокому произволу. А кто дал? И кто отнимает? Все последующие годы Авруцкому мучительно хотелось понять, что же это такое, эта эфемерная и короткая, сколько бы она ни продолжалась, что это за сладкая пытка, неисповедимо как возникающая и неведомо куда исчезающая, этот промельк между двумя ночами.