Август в Императориуме - [100]
И тьма и высь и скорбь и тьма ты так сведёшь меня с ума ты так с ума сойдёшь сама и тьма и высь и скорбь и тьма ещё виток ещё вдогон полупрезрительный глагол бесчеловечен груб жесток но я люблю тебя цветок я так люблю твой завиток что сам ничтожен и жесток но лишь один на всё ответ и да и нет и да и нет
Когда до угла, за которым открывался вид на хорошо слышный фонтан, оставались десяток метров и без пяти двенадцать, вдруг заискрился дождик — полный мирной тишины странствующий скоросшиватель грёз, и зашуршали опять листья-перебежчики, и нежная тоска знакомо сдавила сердце. Ну же…
Капельку чуда.
Пожалуйста.
Хоть раз в жизни!
…Позже Рамон не мог сказать, что именно заставило его остановиться в тени нависающего балкона и всмотреться на расстоянии — интуиция? опыт? Так или иначе, но он остановился.
Ласковый дождик, словно траченое звёздной пылью постельное белье призраков, развешивал себя под кругом стоящими фонарями, оставляя тёмную, влажно блестевшую дорожку цвета мокрого асфальта к стройно шумящему Фонтану Желаний — серо— а сейчас сизо-каменному изящно раскрытому цветку шестиметровой высоты, стоящему в неглубоком бассейне, осенённом из верхней тьмы шевелением длинных, мелко поблескивающих прядей старых берез.
У бассейна никого не было.
Но главным было не это.
За первым сизо-каменным цветком, с лепестков которого струилась шумно-мерцающая влага, едва заметен в дождящей полутьме, стоял второй. Точно такой же.
Внутри всё похолодело, но Рамон взял себя в руки.
Как там назывался развеселый прачеловский фильмец про смекалистого романтичного пройдоху? Фан Фан Тюльпан? Или Фанг Фанг Тюльпанг? Нет, Фанг Фанг — это городишко… Всё-таки нужны, нужны твёрдые отличия хотя бы в одну букву, чтобы различать в дождящей полутьме мысли и предметы — иначе монстры начинают гнездиться прямо в корнях, жирных и склизких буро-лилово-синих корнях, жадно сосущих влажную почву… Иначе мир наполняется чудовищами, которые прикидываются цветами, и цветами, которые прикидываются чудовищами… Иначе тебя ожидает всегда не тот, кого ожидаешь ты.
Почему это он решил, что записка — от Наргиз? По здравом размышлении Рамон находил, что почерк был, конечно, похож, но не более того… А записку он уничтожил — теперь понятно, зачем. Чтобы не усомниться.
Тогда от кого записка? И кому? Кто её оставил в комнате? Ведь даже не поинтересовался!
От кого цветы? И для кого? Кто их оставил в комнате? Аналогично.
Пройди он ещё метров тридцать…
Как раз столько, сколько он шел к переменцу.
И вдруг осенним вихрем закружились в его голове картины той Симфонии Боли — слабые, нечёткие, смазанные, но узнаваемые, и Рамон уже без удивления погружался в то, как выглядит мир с другой стороны. С ИХ стороны.
Он понял и ещё кое-что — и решительно шагнул к фонтану, хотя Посвящённый Меченосец в нем просто орал — «не смей!». По мере приближения картины Симфонии стали приобретать четкость и осмысленность — как и грозные очертания второго цветка. Тюльпан, прирожденный эстетствующий охотник-имитатор, постарался на славу. Дойдя до бордюра бассейна, Рамон опустил руки и закрыл глаза…
Когда он открыл их, второго цветка уже не было. До чего же эта многотонная тварь изящна и беззвучна, когда ей потребуется…
То, что Тюльпан — не всегда безжалостный убийца, Рамону и так было известно: насмотрелся на их брачные игры, любимое зрелище орденцев. А вот то, что он может выступать памятью убитого и транслировать убийце, не трогая его, — было новостью…

У героини романа красивое имя — Солмарина (сокращенно — Сол), что означает «морская соль». Ей всего лишь тринадцать лет, но она единственная заботится о младшей сестренке, потому что их мать-алкоголичка не в состоянии этого делать. Сол убила своего отчима. Сознательно и жестоко. А потом они с сестрой сбежали, чтобы начать новую жизнь… в лесу. Роман шотландского писателя посвящен актуальной теме — семейному насилию над детьми. Иногда, когда жизнь ребенка становится похожей на кромешный ад, его сердце может превратиться в кусок льда.

Книга Р.А. Курбангалеевой и Н.А. Хрусталевой «Истории из жизни петербургских гидов / Правдивые и не очень» посвящена проблемам международного туризма. Авторы, имеющие большой опыт работы с немецкоязычными туристами, рассказывают различные, в том числе забавные истории из своей жизни, связанные с их деятельностью. Речь идет о знаниях и навыках, необходимых гидам-переводчикам, об особенностях проведения экскурсий в Санкт-Петербурге, о ментальности немцев, австрийцев и швейцарцев. Рассматриваются перспективы и возможные трудности международного туризма.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

После восемнадцати лет отсутствия Джек Тернер возвращается домой, чтобы открыть свою юридическую фирму. Теперь он успешный адвокат по уголовным делам, но все также чувствует себя потерянным. Который год Джека преследует ощущение, что он что-то упускает в жизни. Будь это оставшиеся без ответа вопросы о его брате или многообещающий роман с Дженни Уолтон. Джек опасается сближаться с кем-либо, кроме нескольких надежных друзей и своих любимых собак. Но когда ему поручают защиту семнадцатилетней девушки, обвиняемой в продаже наркотиков, и его врага детства в деле о вооруженном ограблении, Джек вынужден переоценить свое прошлое и задуматься о собственных ошибках в общении с другими.
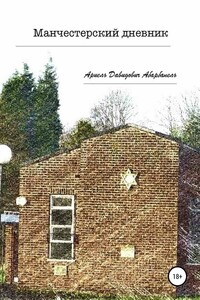
Повествование ведёт некий Леви — уроженец г. Ленинграда, проживающий в еврейском гетто Антверпена. У шамеша синагоги «Ван ден Нест» Леви спрашивает о возможности остановиться на «пару дней» у семьи его новоявленного зятя, чтобы поближе познакомиться с жизнью английских евреев. Гуляя по улицам Манчестера «еврейского» и Манчестера «светского», в его памяти и воображении всплывают воспоминания, связанные с Ленинским районом города Ленинграда, на одной из улиц которого в квартирах домов скрывается отдельный, особенный роман, зачастую переполненный болью и безнадёжностью.

Что скрывается за той маской, что носит каждый из нас? «Воображаемые жизни Джеймса Понеке» – роман новозеландской писательницы Тины Макерети, глубокий, красочный и захватывающий. Джеймс Понеке – юный сирота-маори. Всю свою жизнь он мечтал путешествовать, и, когда английский художник, по долгу службы оказавшийся в Новой Зеландии, приглашает его в Лондон, Джеймс спешит принять предложение. Теперь он – часть шоу, живой экспонат. Проводит свои дни, наряженный в национальную одежду, и каждый за плату может поглазеть на него.