Август в Императориуме - [102]
И всё же общий путь один — двигаться сквозь бытие, поверяя его собой, а себя им. Каждый шаг на этом пути мучительно известен, каждый шаг перевит плющом, каждый ведёт под колеса общей судьбы… Увидеть бытие и свой путь в новом свете — всё равно что, не сходя с места, заглянуть за горизонт…
Хотите заглянуть за горизонт, барон?
Ведь человеку не нужны боги, он сам в состоянии разобраться со своим уделом — иначе чего стоит его разум!
Осознав себя, радость и боль своего удела — мы уже не он, и его цель не может быть нашей. Мы должны найти свою, только свою цель, по размеру нашей воли, нашего разума.
И пускай рассудок ужасается бунту и требует смирения, требует ежечасно благодарить за жизнь, за стол с яствами, за краткие миги счастья и понимания, а немыслимые страдания кратковечных духа и тела, вонь заживо разлагающейся плоти принимать как должное!
Человек — не рассудительный слизень.
Мы свободны и одиноки, барон.
Приезжайте ко мне, если переживете Селеноград — там намечается кровавая заварушка. Формальности с приглашением я улажу.
До встречи… надеюсь.
Звучавший в голове голос Герцога Люцифера смолк. Пыльно-дикое ночное безмолвие опустевшей улицы жизни по-прежнему стояло рядом, в ненасытной смертной тоске заглядывая в глаза, как сгоревший заживо пес вулканистов, и Рамон вдруг услышал, как стучат его когти по асфальту. «Надо дать ему бутерброд» — сработал автоматизм мысли, но рука, рассеянно сунутая в карман впервые за много дней надетой формы, вдруг нащупала сложенную бумажку. Барон развернул её под ближайшим фонарем и увидел пляшущие нервные буквы:
«Я должен войти в Адорайский Фонтан и найти её там… Я должен искать ЕЕ, пока не найду, так ОНА сказала… Друг, у меня дурные предчувствия, поэтому я не могу сказать тебе это прямо — будешь отговаривать и запрещать… Если вернусь, этой записки ты не увидишь, так как форму одеваешь редко. Если же увидел… что ж, прости. „Однажды разобьётся каждый“ — не твое ли любимое изречение? До встречи… надеюсь. Пончо».
…Однажды, несколько лет назад, проходя какой-то странно знакомой улочкой в горном Экс Ункве, где зимой бывает холодно, в холодный вечер, медленно проедавший тишину печальным снегом (из проехавшего автомобиля донеслись мимолетные свет, смех, музыка), он услышал из бледной тьмы похожего на колодец двора тяжкий грохот снеговой лопаты. Собственно, было вовсе не холодно, скорее таяло, чем замерзало, хотя и похрустывало, и, пока он стоял, пытаясь по скребущему внутренности жестяному звуку лопаты отследить перемещения невидимого дворника, и сумеречничал, размышляя о только что растаявшем, скрывшемся с глаз непостижимом дивно-закатно-переливчатом городе Луженебыле, — подкравшийся ветерок тронул-зашелестел какими-то старыми, до неразличимости выцветшими лентами, привязанными к низенькому железному бордюрчику, очевидно, в честь чьего-то давным-давно минувшего праздника. Этот праздный праздник, вероятно, когда-то был просто замечателен, и призрачный вор-ветер, отлежавший до синевы снежные щёки своей могилы, явно силился увести его за собой, украсть, как породистого скакуна, дёргал за поводья-ленты, норовил лихо оседлать, гикнуть напоследок и уцыганить напролет-напросвист дорассветными лесами-просеками…
Напрасный труд.
Один прачел — конечно, не один, но какой из них, увы, не разберёшь — пытался выразить это странное ощущение, когда и ты, и мир, и все ваши границы-очертания, такие, казалось бы, плотно-материальные, начинают как бы мерцать, просвечивать друг другом, но главное: это взаиморастворение вовсе не соединяет тебя с миром любви и надежды, а как раз наоборот, открывает такую галерею тонущих друг в друге призрачных зеркал, что начинаешь цепляться за само страдание, словно твоя боль и есть единственное доказательство твоего существования, которое (страдание, доказательство, существование) пытаются всё время украсть. И если у мира и есть цель, то она именно такова: обмануть, обессмыслить, упризрачнить, оравнодушить, украсть у тебя даже это, чтобы в конечном счете укатать в неразличимую песчинку. И не спасают ни благоговейно-чувственный Храм Нисхождения, как у приснопамятного Сенни, ни личное откровение Восхождения, сверхзвуковой взлёт в первых же двух строчках, словно единственное, что взял с собой пилот (кстати, был ли автор пилотом?), — это фотокарточка возлюбленной. Именно она упоительно разрешает вообще миру быть, и «забывал» звучит так, как должно звучать прекраснейшее из всех земных снов-слов:
Не спасает. Дальше — «летели дни, крутясь проклятым роем», медленный кошмарный спуск в личный ад, собственная тупо-земляная, хотя и фантасмагорическая, улица-ромодановская… В конце концов даже состоявшийся полёт на самом деле невозможен, и этот парадокс — похоже, достигнув-таки дна улицы! — констатировал как бы со дна мирового колодца… кажется, Ясон Робски:
Так вот, один прачел — конечно, не один, но какой из них, увы, не разберёшь — пытался выразить это странное мироощущение:

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

После восемнадцати лет отсутствия Джек Тернер возвращается домой, чтобы открыть свою юридическую фирму. Теперь он успешный адвокат по уголовным делам, но все также чувствует себя потерянным. Который год Джека преследует ощущение, что он что-то упускает в жизни. Будь это оставшиеся без ответа вопросы о его брате или многообещающий роман с Дженни Уолтон. Джек опасается сближаться с кем-либо, кроме нескольких надежных друзей и своих любимых собак. Но когда ему поручают защиту семнадцатилетней девушки, обвиняемой в продаже наркотиков, и его врага детства в деле о вооруженном ограблении, Джек вынужден переоценить свое прошлое и задуматься о собственных ошибках в общении с другими.
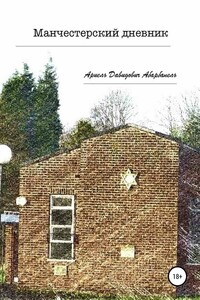
Повествование ведёт некий Леви — уроженец г. Ленинграда, проживающий в еврейском гетто Антверпена. У шамеша синагоги «Ван ден Нест» Леви спрашивает о возможности остановиться на «пару дней» у семьи его новоявленного зятя, чтобы поближе познакомиться с жизнью английских евреев. Гуляя по улицам Манчестера «еврейского» и Манчестера «светского», в его памяти и воображении всплывают воспоминания, связанные с Ленинским районом города Ленинграда, на одной из улиц которого в квартирах домов скрывается отдельный, особенный роман, зачастую переполненный болью и безнадёжностью.

Что скрывается за той маской, что носит каждый из нас? «Воображаемые жизни Джеймса Понеке» – роман новозеландской писательницы Тины Макерети, глубокий, красочный и захватывающий. Джеймс Понеке – юный сирота-маори. Всю свою жизнь он мечтал путешествовать, и, когда английский художник, по долгу службы оказавшийся в Новой Зеландии, приглашает его в Лондон, Джеймс спешит принять предложение. Теперь он – часть шоу, живой экспонат. Проводит свои дни, наряженный в национальную одежду, и каждый за плату может поглазеть на него.

Село Белогорье. Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Воскресная литургия. Молитвенный дух объединяет всех людей. Среди молящихся есть молодой парень в инвалидной коляске, это Максим. Максим большой молодец, ему все дается с трудом: преодолевать дорогу, писать письма, разговаривать, что-то держать руками, даже принимать пищу. Но он не унывает, старается справляться со всеми трудностями. У Максима нет памяти, поэтому он часто пользуется словами других людей, но это не беда. Самое главное – он хочет стать нужным другим, поделиться своими мыслями, мечтами и фантазиями.

Скорее рассказ, чем книга. Разрушенные представления, юношеский максимализм и размышления, размышления, размышления… Нет, здесь нет большой трагедии, здесь просто мир, с виду спокойный, но так бурно переживаемый.