Антропология революции - [140]
Прихотлива и судьба жанра колыбельной в раннесоветской культуре в целом. Посвятивший этому вопросу специальное исследование историк культуры Константин Богданов пишет:
Мотивы усыпления и убаюкивания для культуры 1920-х — начала 1930-х годов нехарактерны, хотя отдельные исключения были и здесь… <…> Однако при всех похвалах революционному бодрствованию и пролетарской бдительности к середине 1930-х годов советская культура демонстрирует очевидное оживление колыбельного жанра как в сфере классической музыки и печатной литературы, так и — что представляется особенно занятным — в сфере кинематографа и песенной эстрады[612].
Эти процессы, несомненно, являются следствием кардинальной смысловой реинтерпретации жанра
Как констатирует А. Пензин, «в политической рефлексии свобода связывается с определенной формой активного бдения… а сон рассматривается как фокус отрицательных качеств — забывчивость, невосприимчивость, безволие, равнодушие, беззащитность, молчание, ведущие к рабству»[613]. Эти характеристики вполне отвечают тому семантическому ореолу, который начинает сопровождать колыбельную в культуре Серебряного века. Именно эту традицию продолжает актуализированный в пред- и послереволюционную эпоху мотив покоя, выраженный через жанр колыбельной. Колыбельная, а также ноктюрн, вводят в музыкальный дискурс «революции» образ сна. Его негативная функция получает недвусмысленный словесный комментарий в программных сочинениях (в первую очередь — в операх, например в «Кащее Бессмертном» (1902) и «Золотом Петушке» (1909) Римского-Корсакова, что вовсе нехарактерно для эпизодов сна и засыпания в более ранних его операх).
Антитеза «непокоя/покоя» в послереволюционной музыке, вопреки напрашивающейся аналогии с излюбленным противопоставлением эпохи Серебряного века — противопоставлением «дионисийского» и «аполлонического» начал, — не сводится к знаменитой ницшеанской формуле. Если дионисийская метафора еще приложима в некотором смысле к мотивам «непокоя», то «покой», пусть и конкретизированный интонационными и жанровыми формулами колыбельной, вряд ли соотносится с образом «аполлонийского сна», хотя некоторые деятели эпохи и пытались говорить о его утверждении в революционном искусстве — как это делал, например, Луначарский в своей речи на открытии Института музыкальной драмы в 1919 году. Его выступление, как легко заметить, проникнуто откровенно ницшеанской фразеологией:
Какая же музыкальная драма нужна для нашего времени? Музыкальное произведение, которое послужит основой для музыкальной драмы, должно быть задумано прежде всего как симфоническое произведение, заключающее в себе какие-нибудь гигантские чувства. Возникающие на почве симфонической картины те или иные образы будут иметь свое выражение в том аполлонийском сне, который будет в это время проходить на сцене. Аполлонийский сон на дионисийской основе[614].
Программный смысл антитезы непокой/покой расшифровывается в музыкальном дискурсе «русской революции» в ином контексте. Суть его вполне внятна, но при этом совсем не однозначна. Разбойник и юродивый образуют двуединую характеристику бунтующего русского народа в музыке послереволюционных десятилетий. Как засыпание, обозначенное «жанровой метафорой» колыбельной, так и пробуждение, связанное с интонационной сферой колокольности, несут в себе негативные смыслы. Разбуженный русский народ оказывается в такой трактовке заложником «вихря истории» и собственной неделимой роли разрушителя и жертвы разрушений.
Такого рода художественная рефлексия русской революции и роли народа в ней не могли устраивать создателей новой культуры. Однако и скрябинская и вагнеровская стилистические парадигмы, которые, по прогнозам идеологов революционного искусства, должны были лечь в основу «музыки революции», не оправдали ожиданий, не будучи близкими «новому потребителю».
Мотивы революционной космогонии после осуществления социальной революции отступили на задний план: для этой трансформации показательна метаморфоза, которую претерпел замысел концепции Четвертой симфонии Мясковского от 1917-го к 1918 году. Первоначально озаглавленная как «Космогония», она к моменту окончания утратила не только это название, но и большую часть связанного с ним запланированного музыкального материала: от первоначальных набросков в тексте симфонии осталась лишь тема колыбельной! Аллюзии этого сочинения весьма определенны: в центре первой части оказался образ юродства, заданный с помощью явных отсылок к интонационности «Бориса Годунова», во второй возникают скрытые цитаты «Плача Ярославны» из бородинского «Князя Игоря», сюжетно продолжающие тему поруганной России и дополняющиеся диалогами с «Борисом» — сценой галлюцинаций с ее «призрачными» мотивами в оркестровой партии. «Могучее стихийное движение» (по выражению Тулинской)[615] вырвавшейся из оков сна народной массы в финале симфонии закономерно вытесняет характерную для предыдущих частей тему юродства, «сплошные стоны и вздохи» (Т. Ливанова)[616].
Наряду с проектом романтической художественной утопии революционная эпоха активно осмысляла и возможность использования культуры Французской революции с ее музыкальным наследием в качестве прототипов новой

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

Сборник посвящен поэме Вен. Ерофеева «Москва–Петушки» как образцу прозы второй половины XX века. В статьях предлагаются разные подходы, позволяющие, по мнению авторов, относительно объективно понять и истолковать подобные произведения.В заключение публикуется записная книжка Вен. Ерофеева 1974 года.

Перед вами сборник лекций известного российского литературоведа, в основе которого – курс, прочитанный в 2017 году для образовательного проекта «Магистерия». Настоящее издание – первое в книжной серии, в которой российские ученые будут коротко и популярно рассказывать о самом важном в истории культуры.

Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) – новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги – авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма – на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии.
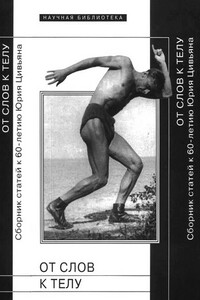
Сборник приурочен к 60-летию Юрия Гаврииловича Цивьяна, киноведа, профессора Чикагского университета, чьи работы уже оказали заметное влияние на ход развития российской литературоведческой мысли и впредь могут быть рекомендованы в списки обязательного чтения современного филолога.Поэтому и среди авторов сборника наряду с российскими и зарубежными историками кино и театра — видные литературоведы, исследования которых охватывают круг имен от Пушкина до Набокова, от Эдгара По до Вальтера Беньямина, от Гоголя до Твардовского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Основой трехтомного собрания сочинений знаменитого аргентинского писателя Л.Х.Борхеса, классика ХХ века, послужили шесть сборников произведений мастера, часть его эссеистики, стихи из всех прижизненных сборников и микроновеллы – шедевры борхесовской прозыпоздних лет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.