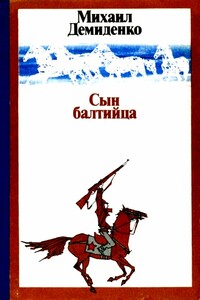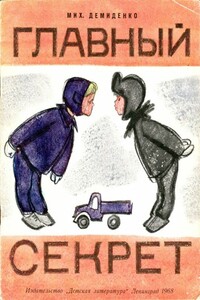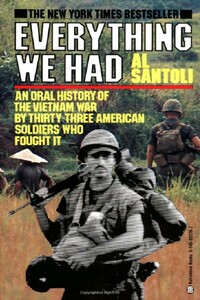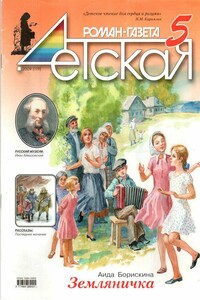Но люди где-то рядом, их надо искать.
Вот дымит труба, сделанная из старого ведра. Она торчит в груде кирпичей. Здесь был дом, теперь в подвале живут люди.
Однажды до войны я сбежал с уроков и пошел смотреть «Александра Невского» в кинотеатр «Пионер». Очень удобные были сеансы в детском кинотеатре. Посмотришь за рубль, который тебе дали на завтрак, два сеанса и возвращаешься вместе со всеми из «школы». Кажется, в этой картине новгородские гонцы прискакали на пожарище и стали сзывать народ и там ещё пели:
Вставайте, люди русские!
На бой, на бой, на смертный бой!
И полезли люди русские из-под дымящихся брёвен, кто с топором, кто с рогатиной. Знакомая на Руси картина!
Теперь киноэкраном был сам город.
На уцелевших столбах ветер шуршит листочками ученических тетрадей: «Фроловы из 57 номера вернулись. Живём на Гусиновке», «Кто знает что-нибудь о семье Вагиных, прошу сообщить на полевую почту…», «Тетя Маня, Борька жив! Ура!».
Откуда-то с неба раздаётся задумчивое мычанье коровы. В школе за Домом книги сохранилась лестничная клетка. Первый и второй этажи заняли под жилье, на третьем хлев.
Вот и площадь обкома! Вместо знакомой стройной громады из красного мрамора много голубого неба…
— Отсюда наша улица начинается, — объясняю я мачехе. — Кировская.
Настроение у меня приподнятое. Домой вернулись!
Отец прибавляет шаг, потом бежит к тому месту, где должен быть дом 22.
Когда я подхожу, отец стоит и мнёт в руках шапку.
От нашего дома не осталось даже печки, только известковые плиты, которыми был покрыт когда-то маленький тенистый дворик.
— Чего переживаешь? — утешаю я отца, как могу. — Я же тебе рассказывал…
— Смотрите! — говорит Анечка. Она нагибается и поднимает с земли чугунную пластинку, отлитую в форме сердца. — Что это?
— Подкосок, — отвечаю я и беру у неё находку. На верхней стороне подкоска можно разглядеть рисунок ружья.
— Андрюшкин! — вскрикиваю я. — Потерял, когда зажигалку тушил!
Сколько раз мы играли этим подкоском в бабки, или, как у нас называют, в шашки, на этих самых до блеска отполированных подошвами известковых плитах!
Воспоминания нахлынули на меня. Где вы теперь, «семеро смелых»? Андрюшка, Магомет Большой, Магомет Маленький, Илюшка, Нинка, Борька?
По слухам, Магометы умерли в оккупации от голода; Илюшку расстреляли немцы прямо за углом нашего дома вместе с матерью; Андрюшка, он всегда был среди нас самым отчаянным, пробрался к партизанам. Их маленький отряд был окружен в степи батальоном СС… Где Нинка, где Борька?
— Вот и приехали! — говорит отец, надевая шапку. — Пошли на завод. Там-то знакомых найдём!
До завода, где работал отец, километра три. На Чижовке, окраине города, кое-где сохранились деревянные домики. Здесь чаще попадаются люди. Я вижу кошку. Она самозабвенно охотится за жирными воробьями.
Потом опять развалины.
От завода остался щербатый забор. Стены цехов торчат, как ребра у скелета.
Отец уходит разыскивать партбюро, разместившееся где-то в уцелевшем сарае, я с мачехой остаюсь на трамвайной остановке рядом с подбитым танком. По другую сторону трамвайных рельсов километра на два, до самой «Беконки», тянется самолётное кладбище.
«Юнкерсы», «мессеры», ТБ-3, «кобры», «ишаки», «костыли», «кукурузники» блестят на солнце дюралевыми плоскостями.
Только тут я понимаю, что мы вернулись в мёртвый город. И убили мой город они, фашисты!
Я вижу их своими глазами. Первый раз в жизни. Колонну пленных в зелёных куцых шинелях ведут два казаха с автоматами.
— Стой! — кричит конвойный в голове колонны. — Перекур делать будем!
Люди в зелёных шинелях останавливаются, без единого звука разбредаются по сторонам, присаживаются на край уцелевшего тротуара. В нос ударяет окопной вонью.
На колесо танка опускается немец с забинтованной головой. Лицо у него серое, он морщится от боли. Для него война кончилась, он остался жив и, видно, устал так, что готов заснуть на полпути к лагерю.
Мне ничуть не жалко его! Мне даже приятно видеть, как по его лицу бегают морщинки от боли.
Оглядываюсь на мачеху. Она делает немцу какие-то знаки, говорит что-то громко, как глухонемому, потом подходит и снимает с головы бинт слой за слоем.
— Аня!
Она, не обращая на меня внимания, достаёт из вещевого мешка индивидуальный пакет, надрывает его.
— Это же немец! — задыхаюсь я.
— Вижу! — в голосе мачехи слышатся нотки сожаления, точно не она, а я сейчас делаю что-то преступное.
— Он же фриц!
— Найн! — стонет немец. — Их бин Герхард.
— Потерпи, потерпи, Герхард! Сейчас я тебя риванолем.
Анечка резким движением отрывает от раны коричневый тампон.
— Не смей! — Я подскакиваю к ней и хватаю за руку. — Не дам!
Немец охает — видно, я толкнул его. Он смотрит на меня виновато, точно понимает, что иначе и не могло быть и что я, мальчишка, не хочу, чтоб моя сестра, или кто она там мне приходится (не мог же он догадаться, что это моя мачеха!), делала ему перевязку.
— Отойди! — тяжело дышит Анечка.
— Как ты можешь?
— И ты бы смог! — кричит она. — Фанатик!
Меня трясёт, хочется броситься драться.
— Фанатик! А ты кто?
Если бы я не знал, что немцы убили у неё всех близких, я бы подумал, что она шпионка.
Я иду к самолётам.