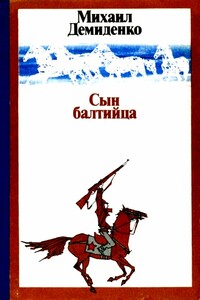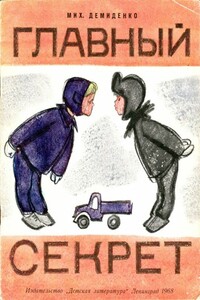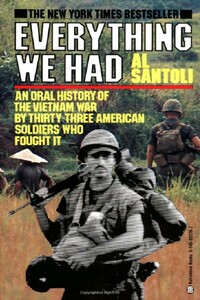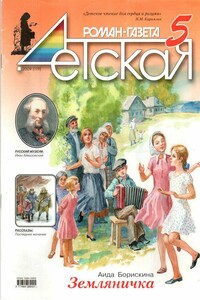— Батька-то поправился?
Я поднимаю голову. Рядом стоит Верка. Держится она как-то неестественно — стыдится, наверное, вчерашних слёз. Я молчу.
— Эх ты, дурак! — говорит с презреньем Верка. — Думаешь, я не могу делать уколов? Только бы показали. Я бы твоего отца за лето на ноги поставила.
«Тук-тук… тук-тук…» — стучит молоток.
— Я ребёнка хочу! — доверительно говорит Верка.
Чтобы не слушать её, я думаю о мачехе. Такую не зря медалью наградили. А что она могла делать на фронте?
Я пытаюсь представить, как Анечка убивает немца. Она такая маленькая, а немцы большие и рыжие. Я почему-то убежден, что все немцы рыжие и с волосатыми руками, как на картинках в «Крокодиле».
Верка уходит. Она медленно идёт мимо нашего дома. На крыльце стоит отец. Походка у Верки уточкой, отчего колышутся бедра.
Рядом со мной на сломанные сани присаживается дед Кирилл.
— Эть, кобыла! Смотри, выкаблучивается! Верка, зараза, бригада-то ушла! Я тебя!
Верка срывается с места, бежит. Ветер треплет подол её юбки, оголяя крепкие загорелые икры.
И всё-таки она ближе и понятнее, чем мачеха. Может быть, с Анечкой ещё поладим?
Подходит отец.
— Доброе утро, Кирилл Матвеевич! — здоровается он с дедом. — Гришка, ты совсем сельский житель. Я и то косы отбивать не умею. Дай попробую!
— Испортишь! — я не выпускаю из рук молотка. Мне очень приятно, что отец похвалил меня. — Литовок мало. Потом научу.
— И каждое утро скандал! — жалуется дед Кирилл. — Нет у меня для этой бабьей породы авторитету. Тебе надо, Сергеич, в председатели: бабы сразу языки поприкусят. А то я им одно толкую, а они лаются, ну чистые…
Отец смотрит на меня. Я не замечаю ругательства. Мат — слабость деда Кирилла, он объясняет это пережитком царской армии.
— Слушай, Сергеич!
Дед достаёт кисет, закуривает, табак протягивает мне.
— Оставайся у нас в колхозе. Поедем в райком. Там артачиться не будут, а на собрании бабы за тебя по две руки поднимут, вот те крест! Ну какой из меня председатель? И красной книжки не имею. Не вступил, балда, в гражданскую, а теперь совестно. В Суханове председателем баба, а книжку имеет. Сила!.. В районе трактора добились. Нет, тебе резон прямо в председатели соглашаться!
— Не понимаю я ничего в сельском хозяйстве, — отвечает отец. — Я строитель, прорабом работал. Моё дело — фундаменты, стены возводить…
— А чо те понимать в нашем деле? — горячится дед. — Когда пахать, я те скажу. Когда полоть, тоже скажу, а там сам по ревматизму погоду указывать будешь. Это тебе не это… ну, что ты сказал, стены возводить. В районе разговаривать сможешь? Оно, понятно, тяжело, война, но покричать и попросить надобно. Может, и дадут чо… Всё бери. Потом в другом колхозе обменяем. А строить у нас сколько хочешь… Коровник бы! — мечтательно вздыхает дед.
Я внимательно слушаю.
— Нет! На родину поедем! — говорит отец.
Я, довольный ответом, затягиваюсь самокруткой.
— Техникум кончал. Может, теперь в институт поступлю. В архитектурный.
— Понятно! — бормочет дед Кирилл, поднимаясь. — Не хочешь, значит. В учёные выйти хочешь. Это понятно! В начальство…
И он идёт к конюшне запрягать лошадь.
Первый раз мы с отцом остаёмся одни. Хочется, чтобы он погладил меня по голове, я бы прижался к нему, как раньше, давным-давно, до войны.
— Слушай, сынок!
Я откладываю молоток в сторону.
— Давай бросим курить, — предлагает отец.
— Бросим!
Я без сожаления тушу сапогом цигарку.
— И ещё…
Отец кашляет.
— Ну?
— Ты поласковее с Анечкой. У неё никого нет.
— А у меня?
— Но ты же мужчина!
Я сижу потрясённый. Нет, ничего отец не понял. Ничего!
— Даешь слово, что будешь мужчиной? — спрашивает отец.
— Хорошо!
Он встаёт и уходит.
— А я тебя столько ждал…
Меня душат слёзы. Голова звенит. Я беру в руки молоток и бью не глядя по косе.
«Тын-н-н…» — звенит коса. На её полотне появляется вмятина.
— Гражданин, не положено!
Мужчина встает с вокзальной скамьи, разделённой поперечными досками на узкие, будто в театре, сиденья. Только смертельно усталый человек может прилечь и заснуть в таком гробике.
Усатый милиционер, уставший не меньше пассажиров, идёт дальше.
— Гражданка, во второй раз говорю! Поднимись с полу!
Свердловский вокзал набит людьми, как трамвай на заводской остановке после смены. Люди спят на ступеньках лестниц, на пустых прилавках «Союзпечати».
Милиционер поднимает их. Они встают, вяло извиняются. И не успевает милиционер сделать пять шагов, снова ложатся и сразу засыпают.
Железную дорогу бьёт лихорадка — отлив эвакуированных. Сорванные войной с насиженных мест люди, как птицы весною, пробираются в родные края, где по ночам небо на западе светится от артиллерийских залпов, а на развалинах ещё не стерты надписи: «Разминировано. Сержант Петров». Однажды оставшиеся без крова люди теперь везут с собой всё, что успели нажить за две долгих зимы и долгое лето: утюги, подушки, сушеные грибы, оконные стекла. Никто не знает, что ждёт его дома.
В узком проходе между лавками на плетёных корзинах примостилась старуха. Рядом на драном одеяле, прижав к себе грудного ребёнка, спит женщина. Она чем-то напоминает Верку, такая же сильная и по-русски красивая. Ребёнок не спит. Это девочка, чумазая и смешливая. Ей хочется играть. Она лезет ручонками под кофту матери. Точно лопнув, кофта расстёгивается, выпадает грудь. Большая, белая. Девочка играет грудью. Женщина во сне сладко чмокает губами и ещё крепче прижимает к себе дочку.