¥ - [7]
Двое в лодке, не считая Громыки, мы с головой ушли в работу. Писали код с нуля. Не проветривали, не спали, но курили так, что Громыка, проникнув в наш двухместный батискаф, мигал и кашлял до слез. Он навещал нас, как тяжелобольных, в нашем продымленном лепрозории: являлся эдакой монахиней-католичкой в громоздкой белой шляпе, похожей на накрахмаленный лопух, и выкладывал из монастырской корзинки ржаной кирпичик и прочую бедную холестерином пищу. Кусая расчехленный багет, точно это был банан, а не свежая выпечка, или сочно хрупая яблоком, Громыка клапка Громыка делился новостями, травил анекдоты или расхаживал, заложив руки за спину, вдоль свободной стены, давая дельные советы по распорядку дня и ведению домашнего хозяйства. Мы налегали на дешевую колбасу, а из кирпичика лепили человечков, быстро зеленеющих от влаги и тоски. Остатки провианта Громыко заботливо прятал в облупленный “Днепр”, который тикал, как старый советский будильник. На хлебных человечков наш домовитый гость смотрел с осуждением: они ему казались верхом расточительности и юношеского нонконформизма; сокрушенно подобрав ошметки с полу, он прятал их в салфетку и уносил с собой.
Полгода безвылазно просидели мы в малярийном чаду, в плотном зеленом дурмане с болотными блоковскими чертенятками по углам и постоянной флоберовской злобой, которая временами плачет от бессилия, однако не проходит. Полгода на гиблой территории искусства, в упрямом борении со стихией и с собой. Шесть долгих месяцев под оголенной лампочкой на длинном шнуре, повисшей над нами, как скупая слеза над бездной. Счастливое, благодатное время!
Мы сделались инструментом языка. Энергетические импульсы передавались от него к нам и обратно. Живой огонь бежал по нашим жилам, ветвясь в глубину, как стрела репчатого лука, пустившая корни в стакане воды. Мы вышли из реальности, оставив дверь открытой и выпустив из мира грез немыслимых монстров, которые, судя по ветхим костюмам, томились там со времен “Страха и ненависти в Лас-Вегасе”. Глаза наши тлели недобрым огнем, в котором вспыхивали порой фанатичные искорки. Громыко это видел и в редкие визиты был тих, как крапива на кладбище. Он вставил разбитое стекло. Он распугал и уморил всех местных крыс. Он повелел иерихонским трубам смолкнуть. Он щедро смазал замок и дверные петли машинным маслом. Холодильник тоже перестал икать и тикать, и только горько вздрагивал по ночам, как очень старый человек, умирающий на чужбине. Громыко словно подменили: неслышно распахнув дверь, навьюченный провизией, горбатой тенью семенил он вдоль стены и гулко ронял апельсины, пугаясь шорохов, теней и самого себя. Пол был устлан кучерявой стружкой распечаток и иссохшими остовами хлебных человечков. Мы с Сегой сидели, прильнув к мониторам, в капюшонах, похожих на куколи, в зеленом невротическом угаре, каждый в своем камерном, обжитом аду, оставляя Громыкины манипуляции без внимания. Но иногда, истощенные до предела, мы спускались на миг в дольний мир и механически-вежливо беседовали с начальством, не замечая, что изъясняемся машинным кодом, а начальство беспокойно ерзает и норовит улизнуть. Смиренно выслушав отчет, в котором только пару слов казались ему смутно знакомыми, Громыко важно кивал и, крадучись, удалялся. Заметно улучшился наш рацион — впрочем, впустую, ибо мы к тому времени питались только влажным воздухом и свеженаписанным кодом. Еще немного — и Громыко стал бы почетным обладателем подвала с двумя ручными привидениями, но кодинг сменился более прозаическими вещами, и мы вернулись в мир людей и цветущих деревьев.
Прекрасно помню тот день: мы с Сегой курили, пялясь в прокопченное оконце, и вдруг, не сговариваясь, подорвались и, как очумелые, толкаясь и крича, выбежали на улицу. А с улицы навстречу грянул май, и я не знаю случаев, когда зеленая листва так радовала простого смертного. Стояли тихие, уютные сумерки с прогретой за день травой, тяжело шевелились ветви цветущих акаций, тревожно-белые в зеленоватом свете неба, и что-то лопнуло и звонко распустилось в груди. Мы шли молча, изумленно вслушиваясь в жизнь, и расстались на углу: Сега пошел домой, а я пошел жениться.
Что может быть вкуснее цветков белой акации? Разве что майская клубника — грязная, горячая, только что с куста. В тот вечер я ел акацию гроздьями, как некоторые южане едят виноград; ел жадно, до сладкой рези в желудке; ел, упиваясь сочными, благоухающими цветками, горьковатыми и терпкими, как мускат.
При первой же возможности “Громыко и K°” променяли булгаковский подвальчик на бизнес-центр. Это была стеклянная колба, которая с приходом сумерек вскипала бешеным неоном. Архитектура колбы напоминала технократический кошмар из фильма Терри Гиллиама: на каждом уровне стеклянной емкости бурлила деловая жизнь; лифт летал меж этажами, аккуратно останавливаясь на длинных делениях; букашки в галстуках, сердито шелестя бумажками, катили вниз, в подземный паркинг, или взмывали к равнодушным небесам, где вместо бога на неоновом нуле сидел манекен с мобильником, суля нуль коп. за соединение. Стекло, металл, терминалы, жужжанье эскалаторов и кофейных автоматов. Где вы, болотные чертенятки? Где вы, юркие водяные духи? Нет вас.

Книга эта — комедия дель арте, разыгранная в декорациях XXI века. Гротескный, фантастический мир, герои которого исполняют интермедии на тонкой веревке, соединяющей сон и явь, фарс и трагедию, магию и реализм; шитая пестрыми нитками фантасмагория, текст-ключ, текст-маска, текст-игра, ведущая по ромбам, как по классикам, в густонаселенную загадками Страну Чудес.

Ульяна Гамаюн родилась в Днепропетровске, окончила факультет прикладной математики Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, программист. Лауреат премии “Неформат” за роман “Ключ к полям”. Живет в Днепропетровске. В “Новом мире” публикуется впервые. Повесть, «Новый Мир» 2009, № 9.

В сборник вошли две повести и рассказы. Приключения, детективы, фантастика, сказки — всё это стало для автора не просто жанрами литературы. У него такая судьба, такая жизнь, в которой трудно отделить правду от выдумки. Детство, проведённое в военных городках, «чемоданная жизнь» с её постоянными переездами с тёплой Украины на Чукотку, в Сибирь и снова армия, студенчество с летними экспедициями в тайгу, хождения по монастырям и удовольствие от занятия единоборствами, аспирантура и журналистика — сформировали его характер и стали источниками для его произведений.
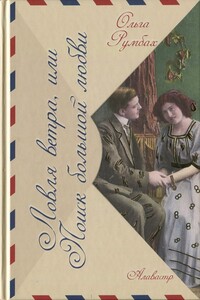
Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.
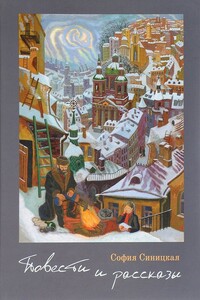
УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.
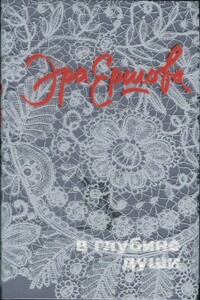
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.