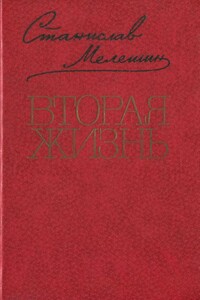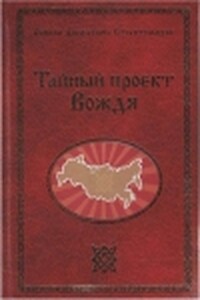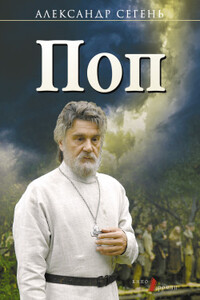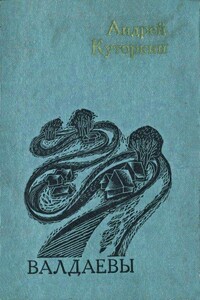Ну, вот, кажется, и все — отстрелялся…
Здесь, по-над степью, на железной вершине Магнит-горы, в полнеба, открытой всем семи ветрам, Матвей Жемчужный, облегченно вздохнув, распахнул бушлат и подставил лицо пахнущей первым снежком прохладе. Сюда, на высокий валун, он добрался по крутому склону, спотыкаясь и обдирая руки о древние темные рудные глыбы, намертво придавившиеся в травы, — не сдвинешь.
Отсюда, с огромной высоты, было видно: земля начиналась от горы. У него захватывало дух от распахнутых на полсвета степи и неба, а сердце сжимало от необъяснимой печали, которая накатывает вдруг, когда земля с желтыми молчащими степями-пространствами раскинется перед тобой вперехлест с дальним небом и глаза до рези ищут горизонт, а его не видно, будто он где-то еще и еще дальше — в небе, когда ты остаешься один на один со степью, с самим собой и прощаешься с тем, что было, что каждодневно клокотало горячей кровью в тебе самом.
Когда-то по весне был завьюжен черемухой Урал…
Отпушилась она, киповая, дурманящая, с гудящей пчелой на рассвете, опала по берегам, унесли куда-то розовые вороха лепестков холодные воды рек, а в полдень с неба, истомленного солнцем, навалился и объял полпланетную степь огнедышащий зной, и закачались марева, закрывая горизонты, и заплясали по травам тяжелые голубые дожди, после которых исходила она паром и, освеженная, вздыхала. Разноцветные обручи радуг долго опоясывали набухшие небеса, трепыхались по-над землею, придерживая размытые долины, уплывающие вдаль.
А сейчас степь пустынна, она как бы затаила дыхание… Остановилось огромное небо. Погасли жаворонки, спрятавшись где-то в грозовых облаках. При такой тишине маленький шустрый суслик, перебежав дорогу, воровато оглядываясь, нырнул в спасительную нору — там ему безопасней и теплее. Показались вдали в золотом облаке пыли какие-то кони со всадниками, остановились как вкопанные, встали на дыбы недалеко от Магнит-горы, у подножия которой молчат серебряные шубы ковыля.
Откуда-то издалека, из подрагивающего жаркими слоями марева, доносился одинокий, тонко поющий звук, словно пущена кем стрела вслед косому полету по грозно молчащему небу вспугнутого отощавшего ястреба.
А может быть, это посвистывает низинный заблудившийся ветерочек?..
Матвей Жемчужный отыскал-таки взглядом горизонт: он, опоясав степь, плавился в небе далекими голубыми Уральскими горами, — еще рассмотрел, как всадники свернули за взгорье, пропали в мареве, и догадался, что это был его боевой эскадрон, который он оставил год назад, уходя совсем в другое наступление… Оставил, но еще не простился.
Да, время отшлепало свою торжественную печать на его десяти тревожных победных годах жизни, что прошли в боях и походах. Еще слышатся тупые стуки копыт по широким трактам и пыльным дорогам, еще зеленая травка под березами манит прилечь, забыться, поспать часок-другой, еще в ушах потрескивают выстрелы, стрекот пулемета, слышатся надсадные выдохи «хряк» в огненной лавине конниц, когда молнией летала сабля по загривкам бандитов.
И вот бандиты разбиты, очищена южноуральская округа от недобитых дутовских войск, отвоевана и сбережена для республики, для красной Родины государственная Магнит-гора, милая железная голубушка, на сохранение которой был он когда-то послан сюда лично Владимиром Ильичей и Дзержинским…
Неужели эскадрон мимо пропылит?
Над головой треснуло небо, задышали, погудывая, высотные ветра. Жемчужный запахнул бушлат, накрепко припечатал бескозырку на затылок и в этой грозной тишине вспомнил самое главное.
Когда-то, еще в 21-м году, думал, что вконец отстрелялся, ан нет — вызвали его из родной Увельки, из-под Челябинска, аж в Уральский губком. Сдав в Екатеринбурге партийным товарищам свой тяжелый маузер, он получил взамен оружия мандат, в коем ему предписывалось незамедлительно выехать в Москву и прибыть в распоряжение товарища Дзержинского.
Значит, не отстрелялся еще… Думал, хлеба будет ро́стить, да вот понадобился зачем-то Феликсу Эдмундовичу. Вспомнила ЧК о нем… Душе приятно, конечно. А раз так, давай-ка в путь собирайся, до Москвы добирайся! И тогда подумал он, что, видать, еще не отстрелялся… И тогда снова ему слышались выстрелы, отчаянный топот копыт. Уходил как-то от погони, шарахалось в сторону огромное солнце и пряталось за горизонт, сдавливала грудь тугая, взмокшая от зноя тельняшка, и было ему тогда не то чтобы не по себе, а как-то на душе неуютно.
Перед Москвой нужно было собраться и приодеться во что-ничто, и он двинул на базар. Он хорошо помнит, что его раздражали и легкий мирный пушистый снежок, устилавший городские улицы, вроде шлейфа у подвенечного платья, и равнодушные неторопливые прохожие, которые, как ему казалось, и в жисть не проваливались по самую шею в степные самодовольные сугробы около белоказачьих станиц, и чужое, городское, озябшее красноватое солнце над черной сиротливой речкой Исеть, и собственная одинокость.
На толкучке около кладбища, что неподалеку от Ивановской церкви, он успел еще застать подвыпивших старьевщиков и долго искал поддевочку какую-нибудь и непременно сапоги, по-матросски приценивался. Суконный пиджак — сразу! Яловые сапоги — сразу! Ну и рубаху с картузом — тоже. Поддевочки он не сыскал. Ему сказали: «Была, была — пропили! Фартовая поддевочка!» Связав все эти робы в узел и перекинув через плечо, он двинулся по направлению вокзала, кося глазом на встречные «жраловки», оставляя за спиной и кладбище, и Ивановскую церковь, и колышущиеся тени на ее огромной белой стене от гульбы среди барыг, калек и пропойц.