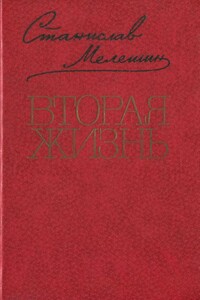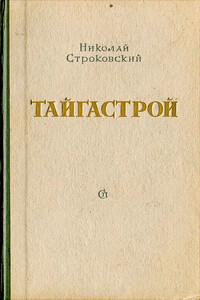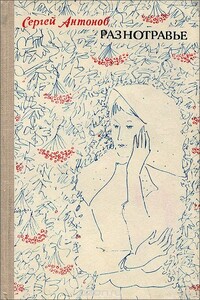Повторяя себя из века в век, все так же плыли по небу золотые от солнца облака, все так же забивали горизонт тяжелые чугунные тучи, полные дождей и грома, и все так же стлались по небу длинной канителью искровые дымы по-над жилищами людей — только на земле ничего не повторялось, кроме пожара и стрельбы, смертного боя и хриплых победных песен, крови и слез, любви и ненависти, смерти и рождения человека…
Во всем повинуясь времени, небу, земле и хлебному злаку, люди — жили. Несмотря ни на что! Жили яростно, трудясь и поклоняясь природе и правде, возвеличивая и предавая, подчиняясь власти, попирая законы, до той поры, пока не разделила их тревожная межа, за которой по одну сторону — хлебные поля, а по другую — кладбище.
Это произошло в южноуральской степи в двадцать втором году, в той далекой, а потому и самой ожесточенной стороне России, по которой в дыму пожарищ, в крови и гневе, в стрельбе насмерть и в отчаянной сабельной рубке не так давно промчались лавиной белоказачьи сотни атамана Дутова.
Степной мир взрывали иногда перестрелки между оставшимися мелкими бандами и красными эскадронами, которые охраняли сельские Советы, новую власть — Советскую власть.
Глава 1
ДОРОГА В ДРУГИЕ МИРЫ
Казак Василий Оглоблин любил утречком выходить в степь и раздвигать сапогами набухшие, белые от росы ковыли.
Он один встречал восход солнца, когда на всем белом свете было тихо-тихо, так, что слышно, как стекала роса по ковыльным стебелькам, и он видел, что ковыли от этого шевелятся. Солнце нехотя поднималось из земли начищенным пятиалтынным.
Человек и солнце встречали друг друга. Жизнь продолжалась, и выстрелом ее уже нельзя было остановить.
Всматриваясь в огромное светило, Оглоблин рассеянно пинал ковыли и думал о том, что дни бесшабашно и неуемно все бегут и бегут по трактовой дороге, уходящей в другие миры, что за горизонтом, бегут, как тарахтящие повозки или кони со всадниками, выбивающие копытами искры под лай дворовых волкодавов, скрип открываемых ворот и стук ставен.
На рассвете у Василия всегда щемило сердце от восторга и тревоги: а что же будет этим новым днем на земле? В его округе, развернувшейся степью на все четыре стороны?
Он бросал руки в глубь ковыльного куста, собирал в ладони росу и умывался ею, будто играя.
Мягкие черные кудри спадали на глаза, он отдувал колечки волос и, выгнув шею, отбрасывал их на затылок.
Казак Оглоблин ютился с матерью Аграфенушкой на окраине станицы и жил не то чтобы бедно, но и не богато. В своем хозяйстве они держали захудалого коня, которого станичники видели только на пашне и никогда на станичных парадах, и грустную, но зато породистую холмогорскую корову, которая вдоволь давала им молока.
Василий с Аграфенушкой холили и берегли ее, в станичное стадо не отдавали — пастух был ненадежен. Да и зачем отдавать? Маманя утром открывала калитку, и коровушка уходила одна на выгон, в степь, на свои излюбленные поляны, а вечером уже сытно и требовательно мычала у изгороди: мол, это я вернулась.
Домишко их, побеленный и аккуратный, празднично глядел вымытыми окнами с резными наличниками на солнце и на весь пыльный казачий мир. Окна никогда не закрывались ставнями, и вечерами огонек керосиновой лампы бросал на тракт веселый, уютный свет.
Матрос Жемчужный, который служил когда-то поваром на Балтийском флоте, установив справедливую власть в станице, размахивал маузером, доказывая, что Оглоблиным надо расширить надел земли за счет лишней пашни богатея Кривобокова.
Расширили.
Василий брал под уздцы работягу-коня и уходил в степь до позднего вечера.
Аграфенушка любовалась им. Он шел по земле, которой нет ни конца ни края и которую никогда, наверное, нельзя распахать, потому что не хватит людей, таких, как ее сын.
Он шел, ступая между распадков ковыля, все дальше к дальше, потом его фигура растворялась между небом и землей, и ржание лошади уже не было слышно.
И тогда Аграфенушка хорошо, просветленно вздыхала, спокойная за сына, за их будущее, верила, что хлеба непременно взойдут, заколосятся урожаем и будет душа в полете.
Хлеба взошли и вымахали под конец июня зеленой стеной по грудь, видные у самой дороги.
Сегодня Василий, трижды в спину перекрещенный матерью, умывшись росой, шел в степь на покос мимо своей ржи на наделе и угла пшеницы, оставив на мать всю огородную маяту. Сеном нужно запасаться загодя, пока стоит вёдро. Он перекинул на хребтину лошади грабли, узел со снедью и сейчас вел ее под уздцы с косой на своем плече, вел к речным камышам на дальнюю луговину. Тракт сворачивал к березняку и терялся где-то за увалами под нижним небом — под облаками.
Еще не парило, дышалось легко, и ноги в мягких сыромятных чунях отшагивали ходко, и лошадь спокойно пофыркивала за спиной, иногда взбрыкивая, чтоб поспеть за хозяином.
Резали сиреневое небо ласточки и стрижи, взлетывали над ядовито-красными шишками татарника, а в середине неба пронзительно звенел запоздалый жаворонок, окрест отливали золотом гривастые ковыли; и вся эта утренняя мирная тишина, раскинутая на древних былинных просторах, рождала в душе Василия грустные восторги и томила сердце мечтой о чем-то несбыточном и далеком.