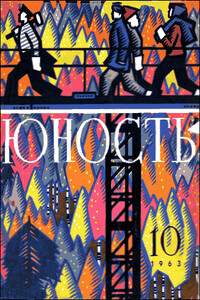Адвокату
Владимиру Львовичу Россельсу
В передней зазвонил колокольчик. Он звонил трепетно и нервно, будто медная птичка билась о медные стены.
Ольга побледнела и медленно положила на стол вилку, потом нож. Он посмотрел на часы и раздраженно сказал, что она дура. В десять часов вечера не приходят. Приходят ночью или под утро. Это каждый ребенок знает.
Потом он надел пиджак и пошел открывать.
У дверей сделал глубокий вдох и рывком нажал ручку.
На пороге стояли три женщины. «Выдох и полное расслабление мышц», как говорит тренер лечебной гимнастики.
— Что вам угодно?
— Защитник Седов… Можно к нему?
— Прошу вас, проходите, пожалуйста…
Надо срезать к черту этот звонок… Кому потребуется — пусть стучат… Пусть дерибанят в дверь, как выражалась нянька.
— Несколько поздний час для деловых бесед, — это он сказал погромче, чтобы Ольга слышала и успокоилась, дура этакая. — Но милости прошу. Вот сюда, в кабинет.
Оказалось поганое дело. Каэровское[1]. В Энске. Работники райземотдела — три агронома и зоотехник. Статьи страшные — 58-7 (вредительство), 58–11 (контрреволюционная организация), 58–14 (саботаж) и другие. Всех четверых — к расстрелу…
— Какой-то сплошной кошмар, — сказала одна из женщин, самая молоденькая, похожая на комсомолочку с кимовского плаката. — Сплошное сумасшествие…
— Ка-тя! — сердито сказала другая, сверкнув пенсне.
— В отдельных случаях… бывает… — покорно добавила стриженая Катя, но тут же взорвалась, — Что я, нэпманша какая-нибудь, чтоб подмазываться к Советской власти. Конечно, кошмар происходит! Виталька кристальный партиец, а они…
И она заревела, как девочка. И две другие — строгая и растерянная — тоже вдруг заплакали, затряслись в истерике.
Но почему именно он, Седов, москвич, чрезвычайно загруженный делами? Ведь в Энске есть адвокаты, то есть, простите, защитники. Прекрасные защитники, например Добролюбов или Газенцвейг.
— Они все отказались. Они не могут писать жалобу. Помогать полностью раз-об-ла-ченным врагам народа…
— И Газенцвейг?
— Он-то совестливый. Он говорит: «Я не могу, меня со свету сживут, у меня брат — враг народа, Семен Юльевич, в аптеке раньше работал. Поезжайте в Москву, к Седову, это светлый человек…» И адрес ваш дал…
— Но, видите ли, у меня как раз сейчас…
— Но их убьют! — крикнула строгая. И то, что она крикнула не «расстреляют», а «убьют», полоснуло его по сердцу.
В дверях показалась Ольга. Она стояла прямая, холодная и решительная, как в дни объяснений со свекровью.
— Володя, — сказала она граммофонным голосом, — можно тебя на минуточку?
Женщины со страхом и мольбой посмотрели на нее. И она посмотрела на них ничего не обещающим взглядом.
— Ты с ума сошел, — прошептала она. — Такое отвратительное дело! И в Энске! Чего ради ты поедешь. — Тут она повысила голос: — Я не изверг. Но ведь есть какие-то нормы. Я понимаю, по назначению… Но самому лезть.
Он вернулся в кабинет деловитым и сосредоточенным. И женщины сразу поняли, что все пропало.
— Вы не смеете отказаться! — крикнула Катя. — Тогда вы не советский человек, вы трус!
А та, строгая, в пенсне, медленно и грузно опустилась перед ним на колени. И растерянная автоматически повторила ее движение. И Катя вдруг тоже встала на колени и с ненавистью посмотрела на него снизу вверх.
— Я поеду, — сказал он убито. — Конечно, я поеду…
…Заведующий юрконсультацией Иван Пряхин, которого ЧКЗ за глаза называли «Рабочая прослойка», был выдвиженец с Гознака. Его в общем-то уважали и считали отличным малым. Все. Даже брюзгливые старики из присяжных поверенных, знававшие Керенского еще просто Алексан Федорычем, не прощавшие «этим новым» ни их варварского стиля, ни диких аббревиатур, вроде МКХ или Наркомюст, или этого ЧКЗ (член коллегии защитников), заменившего благородное слово «адвокат».
— Нет, Владимир Николаевич, — негромко сказал Рабочая прослойка. — Как себе хочешь, а я тебе поручения не подпишу. — И еще тише: — Подумай, как это выглядит!
— Закон дает мне право! — сказал Седов.
Он сказал это особенно повышенным, раздраженным голосом, потому что был противен себе. Что-то в нем отвратительно молилось, чтобы заведующий проявил твердость и не подписал. Хоть бы он своей властью запретил, решительно и бесповоротно, — и поездка отменится.
— Дает, дает, — сказал Рабочая прослойка. — Имеете полное законное право.
— А когда слушается дело? В четверг, — проворковал совсем рядом задушевный голос Лени Савицкого. — Вы знаете, как раз в четверг я занят. Очень жаль! Спросите товарищей, возможно, кто-нибудь сможет…
Никто не отозвался. Савицкий явно спихивал с себя какое-то неприятное дело. Многие так поступали…
Пряхин внимательно осмотрел Леню, потом заплаканную старушку, маявшуюся у его стола. Затем повернулся к Седову, вздохнул и написал, как положено: «Юрконсультация номер такой-то поручает защитнику такому-то вести уголовное, гражданское (нужное подчеркнуть) дело».
— Смотри, — сказал он совсем уже тихо.
И расписался: «Ив. Пряхин».
И Седов почувствовал облегчение. То необъяснимое облегчение, которое он замечал у своих подзащитных после вынесения приговора. Любого, иногда даже грозного! Все решено и подписано, больше уже нет смысла волноваться.