Николай Наседкин
Встречи с этим человеком
Рассказ
Буду краток. Речь не обо мне. Я попал на это место, мне кажется, случайно. Друзья считают, что мне повезло: в тридцать пять лет стать главврачом больницы - это карьера. Но если бы мне кто сказал в то время, когда я учился в мединституте, что я стану когда-нибудь возглавлять так называемый "жёлтый дом", я бы только рассмеялся.
Примерно на третьей неделе моей новой работы ко мне и пришел на приём, настойчиво этого добиваясь, больной-хроник Михайлов Е. Г. Он вошёл, вежливо и нормально (я почему-то всё ещё ожидал от каждого больного ненормальностей), поздоровался и по моему приглашению сел. Я сразу обратил внимание, что он заикается, мучительно смущаясь. Я потому это заметил, что сумасшедшие обычно не умеют стесняться. Росточком он и так не вышел, но зачем-то старательно горбился, лицо имел худенькое и тоскливое. Под мышкой Михайлов держал тетрадку. Он с минуту помялся и в конце концов мучительно проговорил:
- В-в-вот з-з-записи... П-посмотрите...
Я было попробовал расспрашивать - что за записи? о чём? - но он упорно твердил:
- П-п-пос-смотрите, п-потом с-скажете...
Я отпустил его, вскипятил чаю и, усевшись поудобнее, принялся за "записи". Писаны они были нервным, плохо разборчивым почерком. Некоторые места показались мне не совсем литературным, но ведь не член же Союза писателей это писал.
Вот они, эти записки Михайлова.
* * *
"Я той осенью пошёл в первый класс. Стоял на дворе 1946-й год, ещё весь в незалеченных ранах. Мы жили тогда в большом селе на берегу Енисея, и потому война связывалась для меня не с воем самолётов, взрывами снарядов и пожарами... Война - это пустые рукава соседа дяди Паши и его судорожная улыбка, с которой подойдет иногда к нам, пацанам, и попросит:
- Слышь, ребятня, слепите-ка мне, кто половчей, цигарку...
Война - это съежившаяся фигурка Анки-почтальонши, её спотыкающийся шаг, и жуткий бабий вой за калиткой, откуда она только что вышла.
Война - это щи из лебеды, крапивы и ещё какой-то пресной травы, ежесекундное чувство голода и когда кажется, что живот уже прилипает к позвоночнику и всерьёз боишься, что когда он окончательно прилипнет, то придется отдирать его пальцами и будет больно.
Но жизнь брала своё и каждодневными радостями стирала в детской памяти оставшееся позади. Летом приехал наконец-то из далёкой Германии отец, и сразу стало легче. Отец был совсем целый и невредимый, только слегка дёргал головой. Но это же пустяки, - он сам так говорил - лёгкая контузия. Правда, отец через пять лет умер, но это - другая история. А тогда казалось (или мне сейчас, спустя много лет, думается, что тогда казалось?), что теперь будет только всё хорошо и никогда ничего плохого.
В школу я вообще как на самый разбольшой, развесёлый и разожидаемый праздник отправился. Мать из отцовой гимнастёрки сшила мне куртку, на которой были дырочки от боевых медалей, чем я чрезвычайно гордился. Отец сам, лично повесил мне через плечо свою офицерскую сумку, пахнущую кожей, порохом и табаком, и я мнил себя не просто настоящим мужчиной, а -- военным командиром.
Был ли я тогда трусом, не знаю, но сейчас признаюсь, что, когда на третий день школьной жизни мне разбаклажанил нос Вовка Фашист из 3-го "Б", только фронтовая гимнастёрка с дырочками не позволила это стерпеть. Ух и врезал я ему, сволочуге! Его Фашистом не зря клеймили - он суслика раз изловил и прямо с живого, гад, кожу содрал. Я в то время совсем голопузым был, но до сих пор помню его пальцы окровавленные, его оскаленный слюнявый рот и распахнутую мордочку захлебнувшегося в муках зверька. Фашиста били за это старшие ребята, а он катался в ногах и визжал, что они варят дома суп из сусликов, и если кожу с живого сдирать, то суп наваристее получается...
На большой перемене нам за счет колхоза выдавали по куску хлеба, прозрачно смазанного коровьим маслом, и по большой кружке жидкого, но горячего киселя. На кисель можно было долго с усердием дуть, растягивая щеки до истомы в предущных впадинах, и от этого "обед" продолжался блаженно вкусное время. Учителям тоже полагался такой паёк, только ели они отдельно от нас, за матовыми стёклами учительской. Чего стеснялись?
Мама (она вела 3 "Б") в первый же день поманила меня в угол буфета и хотела впихнуть мне свою порцию, но я, чуть постыдно не заплакав, громко и грубо отказался: "Чё я, голоднее всех?" Бедная мама поздно поняла свою оплошность и растерянно обернулась: в хрупкой тишине десятки глаз смотрели на свершаемую несправедливость. Мама опустила голову, точно виноватая, и молча ушла в учительскую. А я долго ещё потом ловил на себе подозрительные и завистливые взгляды, но разве можно было объяснить, что, честное слово, и наедине бы от мамы ни крошки не взял - её саму просвечивало насквозь против солнца.
А жрать хотелось. Не есть, не кушать, не пообедать, а - жрать. Чёрт его знает, вроде и картошка уже молодая была, огурцы, помидоры, редиски почти вдоволь, хлеб каждый день ели... Видимо, скопилось за войну этого проклятого голода в животе столько, что его теперь и водопадом еды было трудно затопить.



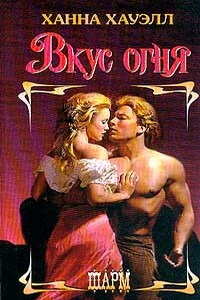




![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)

