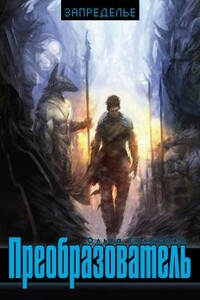Я напрасно рассчитывал на лыжи. Гоночные, слишком узкие, они оказались совершенно непригодными на глубоком рыхлом снегу. К тому же крепления плохо подходили к широким кирзовым сапогам, лыжи были неуправляемы. Я пытался снять их и идти пешком, но это было еще хуже: слишком много снега намело на этой стороне горы. И тогда я снова всунул широкие носки сапог в узкие крепления и полез в гору "лесенкой", то есть боком-боком, крепко впечатывая каждый шаг.
Проводник Евгений на своих охотничьих лыжах поднимался скоро, позволяя себе "пробежки" то в одну, то в другую сторону, преодолевая крутые подъемы "елочкой".
Казалось, главное — это взобраться на гору, но основные мучения начались именно на спуске. Проводник спускался длинными "галсами", я попробовал так же по его следу, не получилось. То есть сходило до поры, но вот лыжи под ногами неожиданно и коварно провалились, а тяжелый рюкзак по инерции, все тащил вперед, и я, естественно, рухнул, зарылся в снег с головой, опасно подвернув руки, ноги; долго лежал так, тяжело дыша, пока не осознал, что помощи ждать не от кого, надо выбираться самому, своими руками и ногами. Несколько таких коварных падений совершенно обессилили меня. Я стал очень осторожным, боязливым; там, где можно было спокойно спуститься напрямую за секунды, я медленно, "но верно" шел затяжными галсами метров тридцать в одну сторону, затем столько же — в другую.
Не знаю, что думал обо мне Проводник. Но догадаться можно: человек впервые встал на лыжи и оттого так неловок, неуклюж, попросту — слаб. Но я вырос на лыжах в горах Урала. Подростками мы целыми днями гоняли за зайцами; в институте я имел по лыжам спортивный разряд; я всю жизнь любил лыжи, лыжные прогулки. Тем комичнее казался нынешний путь. Гладя на себя со стороны, я бы тоже, признаться, пожалел себя, посочувствовал за неумение, дилетантство. Что ж, бывает.
Внизу, у речки, мы отдыхали. Вернее, Проводник дал возможность отдышаться мне, походить свободно на выкрученных ногах. Была бы возможность, я бы снял нижнее белье и выжал, но сделать это на морозе, на ледяном ветру можно было, лишь совершенно перекрутив вместе с руками-ногами еще и голову…
Затем с десяток километров мы бежали долиной, след в след, и это было не только не обременительно, но в какой-то мере и приятно даже. Но потом начался новый, очень крутой подъем, и я понял, что пробежка по равнине была дана мне как милость, чтобы накопить силы к решающему броску.
Здесь, на крутом склоне, тяжело пришлось и Проводнику, я видел, как он по соседству пробивается наверх "елочкой", срываясь и падая и тоже в решающие моменты, переходя на "лесенку". Мешали мелкий кустарник и деревья, обильно разбросанные повсюду, мешали корни, камни, глубокий проваливающийся снег; препятствовало, казалось, все, но шаг за шагом мы все же пробивались вперед…
Вскоре я понял, что больше не в силах сделать и шагу. Я сбросил рюкзак и, отдышавшись, подвесил его на ближайший сосновый сук. Затем снял лыжи и стал ползти вверх, медленно, как альпинист, ища опоры для рук, для ног.
Евгений оторвался далеко вперед, его не было ни видно, ни слышно. Не у кого было спросить, как далеко еще до цели. Я полз по его следу совершенно механически, отупело, думая лишь об одном: когда же все это наконец кончится?!
Стало темнеть. Для полноты ощущений не хватало только этого — ночи, темноты и самого себя, отвоевывающего у коварной горы метр за метром…
Наконец, взглянув вверх в поисках Проводника, я увидел метрах в пятидесяти от себя избушку, вернее, только крышу ее, с трубой и дымком. Эта труба с дымком, такая домашняя, уютная, и прибавила силы; цель стала близка.
Сверху показался Проводник. Я, признаться, не ожидал увидеть его здесь снова. Но он был уже без лыж, налегке, спускался в сторонке. Я понял, что он вышел встречать меня. Как когда-то там, у Белухи…
— Перебирайся сюда! — издали крикнул он, — здесь вроде тропинка…
Я выбрался на тропу, она оказалась вполне пригожей. Вероятно, Саша с Леной время от времени пользовались ею, спускаясь к ручью. Я объяснил Евгению, где оставил рюкзак и лыжи. Он коротко кивнул головой:
— О'кей, сделаем.
Далее мы разминулись: он направился вниз — за моим рюкзаком и лыжами, я — наверх.
…Саша поджидал у избушки. Я не видел его ровно два года. Но сейчас не время было рассматривать человека; мы просто поздоровались: "Привет, привет!" — как будто виделись совсем недавно, и он пригласил меня внутрь избушки.
— Здравствуйте люди добрые! Здравствуй, Лена! — сказал я, входя. — Мир дому вашему! Мир пополнению! Мир всем! Избушку эту и избушкой-то назвать трудно: сразу, в метре от входа, как-то в углублении, в яме, приютилась самодельная печка, обыкновенная железная духовка, приспособленная под печку, обложенная камнями; чуть левее — полочка с посудой, трехлитровые банки с крупой; а еще левее— во всю стену, то есть метра на два с половиной длины — топчан или деревянные нары, покрытые одеялами, покрывалами, всякими одежками… Сверху над нарами — крохотное и продолговатое, как амбразура, оконце. Внизу, совсем уже по левую руку, напротив печки, как раз — трехмесячный младенец на одеяльце. Он совершенно раздет, сучит ручками и ножками. Над печуркой натянутые веревки, на них сушатся пеленки. Круг замкнулся. Я раздеваюсь до трусов. Вот теперь, на месте, в тепле, можно выжать белье. Лена развешивает его над печкой, сдвинув пеленки, дает Сашину сухую рубашку. Хорошо!