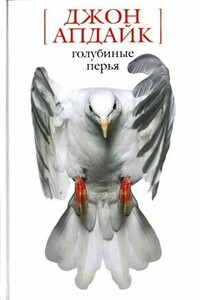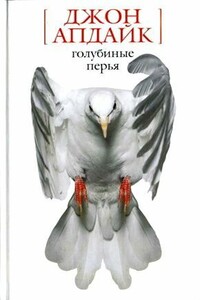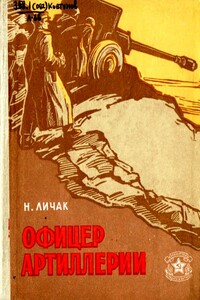…Двое суток не заглядывал я в свою походную тетрадь, неизменную спутницу моих фронтовых скитаний. Двое суток прошли, как сон, вернее, как кинофильм, в котором я был и зрителем, и действующим лицом.
Усталость манит меня растянуться на жестком ложе фронтовой землянки, застеленном смолистым сосновым лапником. Его острый горьковатый запах вызывает воспоминания далекого мирного детства. Я словно вижу ельник в предгорьи Чаткала, вблизи Ташкента.
Но действительность не дает возможности предаваться воспоминаниям: где-то совсем недалеко рвутся снаряды, от сотрясения вздрагивает на столике артиллерийская медная гильза, служащая мне керосиновой лампой, с потолка сыплются песок и мелкая галька.
Итак…
Два дня назад, примерно в это же время, я дежурил в редакции фронтовой газеты «Суворовец». Просторный каменный дом прусского типа, в котором помещалось все наше «издательство», — и редакция, и типография, — стоял на берегу небольшого озера. С трех сторон дом был хорошо прикрыт хвойным лесом, который в любую пору года отлично несет маскировочную службу.
Дом был хорош, как и лес, окружавший его, но мы знали, что это только короткая остановка, полустанок на пути к победе.
Еще раз внимательно прочитав оттиски очередного номера, я подписал газету в печать и вышел подышать свежим воздухом.
Прямо против крыльца луна проложила через озеро длинную золотистую тропинку; по обе стороны от нее чернела холодная вода. Из-за угла вынырнула темная фигура часового. Он слегка притоптывал ногами.
— Что, холодно?
— Да нет! Какое — холодно, весна идет! — ответил он, нажимая на букву «о». — Просто так, от скуки… Вот в наших местах еще действительно холодно… — продолжал часовой, видимо, радуясь возможности поговорить.
— В каких же это местах?
— Ой далеко, товарищ лейтенант! В Вологодской области.
Пониже луны вспыхнули две красные ракеты и, рассыпавшись мелкими брызгами, погасли.
В небе не умолкал рокот моторов, дальних и близких.
— Летают!.. Днем — летают, ночью — летают… Все время летают… — тихо сказал часовой.
Однако долго стоять на крыльце я не мог — нужно было вернуться к печатникам.
Проходя через комнату, служившую нам и рабочим кабинетом, и спальней, я обратил внимание на то, что постель редактора была не тронута, и вспомнил, что его вечером вызвали в политуправление. Значит, он еще там.
На своих кроватях-топчанчиках крепко спали секретарь редакции и два сотрудника газеты. Секретарь редакции, пожилой человек, пришел к нам из гражданской газеты Он принес с собой большой опыт, пунктуальность и аккуратность, которые неустанно прививал нам, молодым военным газетчикам.
Сугубо штатский человек, он с особым рвением выполнял военный устав. Часто, сдвинув большие роговые очки на кончик длинного носа и подняв кверху указательный палец, он поучал нас:
— Уважайте военный устав, товарищи офицеры. Он приучает нас к порядку. Без порядка не может быть дисциплины, а без дисциплины — нет армии!
Мы уважали и устав, и своего секретаря, хотя слегка подтрунивали над его наивной манерой внедрять порядок и дисциплину.
Сейчас самый придирчивый старшина был бы умилен порядком, в каком находились и постель, и обмундирование, сложенное аккуратной стопкой на табурете перед топчанчиком нашего секретаря.
Иначе выглядели кровати молодых газетчиков.
Я не успел еще выйти из комнаты в смежную с ней типографию как услышал громкий окрик часового.
Через минуту ординарец передавал мне приказание немедленно явиться к начальнику политуправления.
Политуправление помещалось на противоположном берегу озера. Я хотел было спросить дежурного офицера о причине вызова, как тот, сделав жест в сторону кабинета начальника, сказал:
— Прошу!
Я подумал: «Наверно, насчет отпуска… Ох, не время!!!»
Месяца три тому назад я подал рапорт об отпуске для поездки на родину, в Узбекистан.
…Стояла слякотная зима Прибалтики. Мы забыли как светит солнце, с тоской вспоминалась далекая солнечная родина, ее сады и виноградники… а тут — сообщение о болезни матери.
Я и сейчас отчетливо помню мое тогдашнее состояние. На глянцевитой бумаге, взятой из трофейных папок немецкого штаба, я написал свой рапорт.
…Минутная слабость! Сейчас все это далеко позади. Да и мать — многие годы ей жизни, — лучше себя чувствует.
А краснеть все-таки придется!
Доложив о своем приходе, я вытянулся в струнку, ожидая дальнейших приказаний.
— Садитесь, — сказал начальник политуправления генерал Востриков, указывая на табурет, стоявший слева от него. Справа сидел мой редактор и, как мне показалось, загадочно улыбался. Минуту длилось молчание. Генерал ерошил седой ежик и делал какие-то пометки на бумагах. Потом он поднял голову, и я увидел большие серые глаза, окруженные синевой усталости.
— Ну как, лейтенант, в отпуск собираемся?
Это было сказано строго, но в глазах генерала мне также почудилась улыбка.
— Никак нет, товарищ генерал! — Очевидно, эти слова я произнес с такой непосредственностью и искренностью, что мои начальники переглянулись, улыбаясь уже совсем открыто.
— Ну, а с этой бумажицей что делать?
В его руках я увидел глянцевитую бумагу моего рапорта.
— Верните ее мне, товарищ генерал!