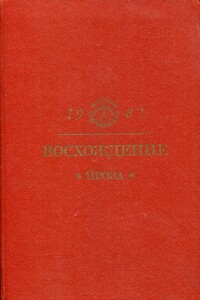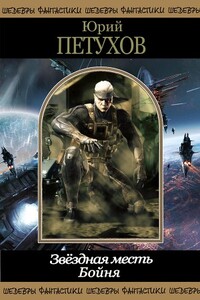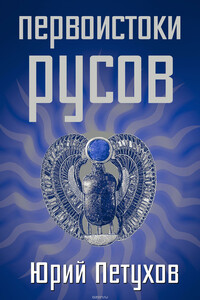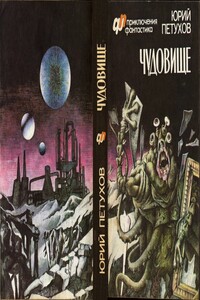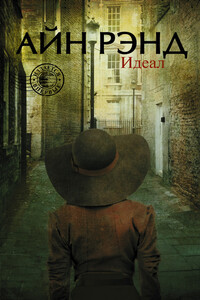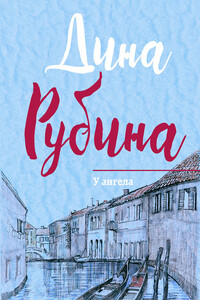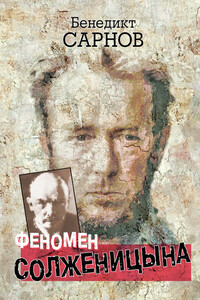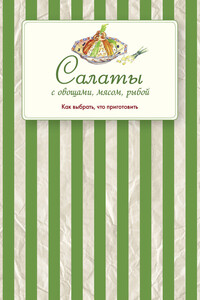Над обшарпанной ветрами, побитой дождем и временем бело-голубой церковью — смурное, лохматое небо. Рваные, по-зимнему уже тяжелые тучи нехотя, словно сонные, цеплялись за покосившиеся, некогда нарядные кресты, лизали прохудившиеся купола, растекались бесформенными серыми глыбами над соломенными и кое-где черепичными крышами слободы. Старая Калитва — в несколько длинных вихлястых улиц, расползшихся по белым меловым буграм правого берега Дона, с обледенелыми, голыми шеями колодезных журавлей, с вялыми дымами, — стекалась на площадь; тревожно и грозно гудел в холодном ноябрьском небе церковный колокол. Надтреснутый его, хрипловатый бас покрывал все иные звуки — испуганное фырканье лошадей, людские крики, ругань, лай собак, свист, матерщину, чей-то пьяный хохот. На площади перед церковью шевелилась огромная, пестро одетая толпа, плотным угрожающим кольцом охватившая растерянных, вскинувших было винтовки красноармейцев — продотряд, но черноусый, в коротком полушубке мужичок, продовольственный агент и местный житель, Михаил Назаров, вскочил в этот момент на бричку, вскинул руку.
— Граждане слобожане! — выкрикнул он высоким, срывающимся от волнения голосом, но его мало кто услышал: по-прежнему бухал над головами колокол, гомонили сотни голосов, да чуть в стороне затеяла визгливую ссору куча голодных слободских собак. Тогда Михаил выхватил из-за пазухи черный, блеснувший в слабом свете наган, — резко, нетерпеливо треснули в сыром плотном воздухе два выстрела. Завизжали, зажав уши, две слободские, стоявшие поблизости от брички молодайки, а губастый, в черном малахае парень, лениво сплевывающий подсолнечную шелуху, стал успокаивать их:
— Да он холостыми… На испуг берет. Вот когда я свою штуку достану, то Мишка взаправду испугается. — И парень, отвернув полу перешитого из шинельного сукна ватника, показал молодайкам тупое дуло винтовочного обреза.
Молодайки в ужасе пооткрывали рты, а парень, довольный произведенным эффектом, раздвинул широкими плечами двух-трех мужиков, стал перед самой бричкой, снизу вверх глядя на продагента и родного своего брата, Михаила.
Колокол смолк, как подавился. Притихли и старокалитвяне. Красноармейцы, в длинных, замызганных осенней грязью шинелях, в буденовках с красными пятнами звезд, поопускали винтовки, прятали покрасневшие от холода руки в рукава, пританцовывали — садился на плечи, головы, на крупы вздрагивающих лошадей первый в этом году снег.
— Граждане слобожане! — снова выкрикнул Михаил, и теперь его слышали все. — Кто-то у вас тут мутит народ, продразверстку все одно выполнять придется, а кто будет супротивничать — заарестуем, потому как это политическое дело. А в арестантской, сами соображайте, удовольствия сидеть мало. Так шо отправляйтесь по хатам и укажите нашим хлопцам, куда поховали хлеб. В противном случае возьмем его силой. А за сопротивление властям кое-кому, может, и…
— Нету хлеба, черт косопузый! — зло закричала пухлая тетка, подтыкая в пестрый платок пряди смоляных волос. — Давеча отряд выгреб, теперь ты объявился… Тебе что тут, Михаил, бездонная бочка?!
— Убирайся-а…
— Не для того Советскую власть устанавливали, штоб силком у крестьянина хлеб отымать.
— Эт сами они, продотрядовцы, порядки такие завели. Неохота ж по другим слободам шастать, давай с одной два лыка драть.
— В шею его, мужики! Чего рты пораззявили?!
— Ткни его вилами в зад, кум. Штоб знал, как в свою слободу голодранцев водить.
— Не дадим более хлеба-а!..
— А ты, Гришка, чего на братца зенки таращишь? По сусалам бы заехал… А то, ишь, красную гадюку заслухався!
Григорий Назаров, к которому были обращены эти слова, дезертир и предводитель местной шайки уголовников, по-прежнему лениво сплевывал шелуху.
— А нехай брешет, — не оборачиваясь, громко сказал он. — Интересно слухать.
— Ты, Гришка, лучше бы молчал и мордой своей тут не маячил, — приглушенно сказал брату Михаил. — За дезертирство свое из Красной Армии ответишь по закону.
— Пугаешь, значит, растудыттвою!.. — выругался Григорий и вдруг отбросил семечки в сторону, рванул из-за пояса обрез. Но стоявший рядом с ним угрюмый чернобородый мужик в добротном белом кожухе остановил его руку.
— Погодь, Григорий, — тихо сказал он. — Не порть обедню. Нехай ишшо народ позлит.
Михаил стоял бледный, желваки буграми катались по его худым щекам. И он с трудом оторвал руку от нагана, отвел намагниченный, разъяренный взгляд от Григория.
— Калитвяне! — снова зазвенел над площадью его высокий голос. — Городу нужен хлеб! Москва и Петроград голодают, в Воронеже на заводах и фабриках хлеба тоже не хватает, некоторые детишки в детских домах погибают…
— А у нас кто? — заверещала все та же тетка в цветастом платке. — Щенята, ай кто? Тем, значит, отдай, а свои нехай с голоду пухнут, да?
— У тебя с Тимохой две коровы, коней трое, овец штук двадцать! — не выдержал Михаил, багровея тонкой, вздрагивающей от напряжения шеей. — И хлеба возов пять сховали, не меньше… Как тебе не стыдно, Ефросинья!
— А у меня не видно, — захохотала Ефросинья. — Свое считай.