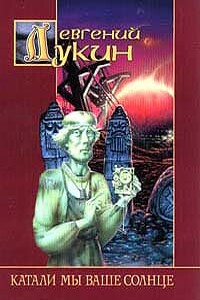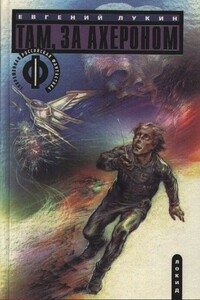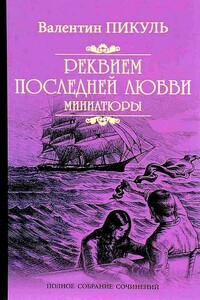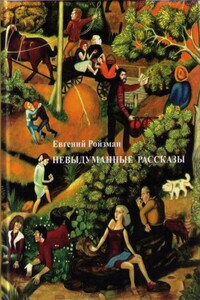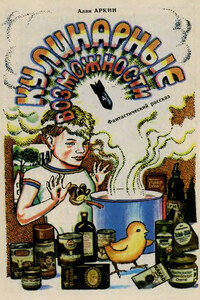О, тайна российского празднословия! Кто разгадает тебя?
М. Е. Салтыков-Щедрин
Прочёл я однажды у Ницше о тонкой резьбе на чешуйках рептилий — настолько тонкой, что без микроскопа не различишь. Зачем она рептилиям, философ объяснить не берётся, зато утверждает, будто и у нас имеется нечто подобное, правда, в духовном смысле. Якобы все наши моральные качества представляют собой этакий, знаете, узорчик из неуловимо крохотных достоинств и недостатков. Та же, в общем, незримая резьба на чешуйках. Если она и воспринимается нами, то исключительно чутьём.
Спасибо, Фридрих, просветил! А я-то голову ломаю, ничего понять не могу! Вот, скажем, один мой знакомый: внешне опрятен, вежлив, вроде бы ничего дурного ни мне, ни кому-либо другому не сделал, однако раздражает, зараза, и всё тут! Неясно чем, но раздражает. А причина-то, выходит, в том, что, как ни старайся он выглядеть душкой, а узорчик-то на духовных чешуйках — некрасивый, отталкивающий.
Или прямо противоположный случай: мерзавец, а симпатичен (это я про своего друга Петю). Вот у него чешуйки, надо полагать, само совершенство.
Других объяснений я пока просто не вижу.
* * *
Лицо у Пети в данный момент сосредоточенное, безукоризненно серьёзное, чего никак не скажешь о физиономии его собеседника, пребывающей в разобранном или даже, если хотите, рассыпанном состоянии. Значит встретились впервые и относительно недавно. Было время, я и сам то и дело с такой физией ходил — с непривычки.
Располагаются они (в смысле — Петя со своим визави) за крайним столиком летнего кафе «Локи». Местечко уютное, насиженное, не шибко дорогое: матерчатый тент, деревянные стулья, кованая оградка и юный официант Митя, светловолосый и светлоглазый.
Вхожу под навес, подсаживаюсь за столик третьим, здороваюсь.
Петя отвечает мне благосклонным кивком, незнакомец — очумелым взором.
— Нет, но… — с запинкой говорит он, снова обращаясь к Пете. — Вы шутите, что ли?
— А вы? — любезно осведомляется тот.
— Но это доказанный факт! — вопит неизвестный (так, кстати, неизвестным и оставшийся — даже имени его не знаю). Могу лишь сказать, что мужчина в годах, дородный, хорошо одетый, мордень — значительная, солидная. Точнее, была таковой до знакомства с Петей.
С соседних столиков на нас оборачиваются, однако приятель мой по-прежнему величествен и невозмутим. Чуть откинутая голова, гордый абрис. Помнится, Марина Цветаева как-то сказала о Пастернаке, будто в профиль тот похож и на араба, и на его лошадь. Вот и Петя тоже.
— Разве я возражаю вам? — неспешно, с важной академической снисходительностью увещевает собеседника этот негодяй. — Я полностью с вами согласен… Вот вы говорите: заговор. Да, несомненно! Всемирный заговор. История сознательно искажается — в угоду нашим недоброхотам. Великую Китайскую стену, вы правы, на самом деле построили древние русичи. А рукопись… Напомните: о какой вы рукописи говорили?
— О Радзивилловой!
— Да-да, конечно, о Радзивилловой… Рукопись подделана.
— Даже знаю, кем именно, — не устояв, встреваю я. — Иваном Семёновичем Барковым, секретарём Ломоносова… Только вот не уверен, что сознательно. Он переводил её в нетрезвом виде. Хотя, по правде сказать, в другом он и не бывал…
Петя смотрит на меня с весёлым любопытством. Так профессор смотрит на извечного прогульщика-студента, давшего вдруг правильный ответ.
— Совершенно верно, — подтверждает он, словно бы дивясь неожиданным моим познаниям, хотя, держу пари, сам впервые обо всём об этом слышит.
— И надо ещё выяснить, — добавляю я. — Не Барков ли сочинил за Ломоносова все его оды. А также сатиры Кантемира…
Незнакомец легонько встряхивает головой, взор его малость проясняется.
— Вы не возражаете, — несколько даже заискивающе спрашивает он, — если я закажу… э-э… на троих…
Петя не возражает. Собственно к этому он и вёл.
* * *
И, что поразительно, никогда ни с кем не спорит. Чем несуразнее мысль, тем с бóльшим жаром он соглашается с нею, подхватывает, развивает — и так до тех пор, пока идиотизм отстаиваемой идеи не проступит окончательно, а носитель её не впадёт в ступор. А то и в бешенство.
У меня, к сожалению, всё наоборот. Видимо, забыл повзрослеть. Как был заводным, так заводным и остался. Любая мелочь, любая глупость срывает меня с болтов — кидаюсь опровергать. Яростно, самозабвенно, до изнеможения.
Допустим, так:
— Вот вы электронную сигарету курите… — замечает благообразный сосед по купе. — А ведь это ещё вреднее, чем настоящую…
Тон — надменно-снисходительный. Чувствуется, что человек владеет истиной в последней инстанции.
Немедля ощетиниваюсь:
— Чем вреднее?
— Вреднее.
— Чем именно?
— Точно вам говорю.
— Вот и давайте точно: чем вреднее?
— Вреднее.
Минута такого разговора — и можно показываться психиатру.
То ли дело Петечка!
— Это вы ещё не всё знаете… — горько усмехнулся бы он в ответ. — Представьте, с каждой затяжкой… — Выдохнул бы в доказательство клуб пара. — …озоновая дыра увеличивается… над полюсами… на ноль целых ноль-ноль тысячных…
— Да ладно вам…
— Ну вот вам и ладно!
— Так бросать надо!
— Не могу… — ещё более скорбно признался бы Петя. — Видите колбочку? Там внутри наркотик. Синтетический. Затянешься разок — и всё. И подсел…